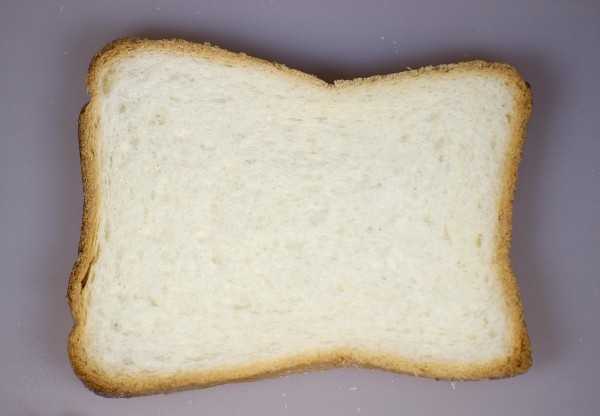Открытый урок по теме "Уроки хлеба" (урок-мастерская). Кусок хлеба рассказ
Открытый урок по теме "Уроки хлеба" (урок-мастерская)
Разделы: Русский язык
Задачи:
- Обучать работе с текстом, умению анализировать, выделять основные проблемы, поднятые автором;
- Закрепить знания об особенностях проблемного очерка;
- Воспитание бережного отношения к хлебу, уважение к нелегкому труду хлебопашца.
Оборудование: плакаты с пословицами и поговорками, афоризмы о хлебе, земле. Иллюстрации, фотоснимки, бюллетени, выставка книг о хлебе.
Ход урока
1. Организационная часть (создание трех рабочих групп)
2. Работа по теме.
Индуктор - чтение стихотворения о хлебе
Мы золотые зернышки, Живем лучистым светом. Мы дружим, неразлучные. Мы чистые, струистые, Мы зерна золотистые, Мы ветерком провеяны И солнышком просвечены, Выносливы, дружны, Мы людям так нужны. Отдельно каждый - зернышко, Маленькое, скромное, А вместе – хлеб, как солнышко Страны своей огромной. (Р.Валеева)
Беседа с учащимися:
Как мы относимся к хлебу? Почему некоторые люди небрежны в обращении с хлебом?
3. Творческая работа. Создание текста.
Учащимся предлагаю создать ассоциативные ряды к ключевому слову “хлеб” (обсуждение в группах, все слова соединить, от каждой группы выступает один ученик).
Прослушивание ответов (примерные ответы: 1 группа - слова на тему “блокадный хлеб”, 2 группа – как вырастить хлеб, 3 группа – “хлеб – всему голова”).
Вывод: “Хлеб - мерило всех ценностей”. (Дети выбирают с плаката афоризм, пословицу или поговорку, который подходит к теме).
4. Работа в группах. (Раздаю текст статьи А.Нуйкина “Кусок хлеба” из методического пособия И.Д.Морозова “Виды изложений и методика их проведения”)
Задания по группам:
- 1 группа – определите тему и основную мысль текста, стиль, жанр, дайте подробное описание хлеба и людей;
- 2 группа – Почему автор выбрал именно это название “Кусок хлеба”.
- 3 группа – Выполните языковой разбор (глаголы, наречия). Какие изобразительно-выразительные средства использует автор, которые позволяют глубже раскрыть главную мысль очерка? (метонимия, парцелляция, эпитеты)
Прослушивание выступлений.
Вывод: Это проблемный очерк, в котором ставится очень важная социально-экономическая и морально-этическая проблема бережного отношения к хлебу, уважения к нелегкому, часто героическому труду хлебопашца.
5. Выразительное чтение статьи учителем до слов “Мальчик оглянулся…”
Общее задание группам: Напишите свое мнение по поводу владельца ботинок, который описан более подробно (мальчишка плотный, в спортивной курточке).
Прослушивание работ по группам.
Вывод: Это обращение к молодому поколению. Этому мальчику ничего не стоило нагнуться и поднять хлеб, но он беспечно швырнул его на середину дороги и остался доволен собой.
6. Домашнее задание. Выберите с плаката афоризм, пословицу, поговорку о хлебе и напишите сочинение-рассуждение (использовать весь собранный на уроке материал).
Материалы для урока:
Пословицы, поговорки, афоризмы
- Хлеб – мерило всех ценностей
- Каждый человек должен свято относиться к хлебу, к нелегкому труду хлебопашца.
- Будет хлеб – будет песня!
- Худ обед, коли хлеба нет.
- Земля кормит людей, как мать детей.
- С хлебом и сила приходит.
- Кто землю лелеет, того земля жалеет.
- Хлеб – это самый дорогой плод нашей матери-земли и рук человеческих. Хлеб – это державное наше богатство.
- Хлеб – всему голова.
- Хлеб! Это - будни и праздник! Хлеб – это сказка и явь. Хлеб – это жизни основа, Это основа земли! Хлеб – это песня и сила, Хлеб – это совесть моя! (Арви Сийг)
- Хлеб – это нечто большее, чем пища. Он является посредником в дружбе и единении людей. Хлебом – солью народ встречает своих друзей.
- Можно думать о хлебе, как о понятии нравственном, ведь “он вместил все – и любовь, и отчаяние, и горе, и счастье” (М.Алексеев)
Кусок хлеба
На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб еще дышит теплым ароматом печи.
Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил раскапризничавшийся карапуз – кто знает. Бойкий городской воробей нацелился было отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару люди…
Чей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком – и полетел он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги.
Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно – удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил.
- Грех!.. Грех-то!.. Большой грех! – раздалось возле.
Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, продубленный солнцем и годами.
Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль и бережно понес к ближайшему газону:
- Пусть хоть птички поклюют!
Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чем?
Может быть, вспомнил голодное свое детство, когда даже на праздники мать подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье восемь ртов и всего две рабочие руки! А может быть, вспомнил убитого кулаками мальчишку из продотряда…
Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду человека, труду хлебопашца, всегда нелегкому, всегда святому! Рукам его сильным и мозолистым, тем, что кормят нас!
А.Нуйкин
xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai
Кусочек хлеба (рассказ) — Ольга — Дневник — Православные знакомства «Азбука верности»
КУСОЧЕК ХЛЕБА
...Увлекшись своими материнскими мыслями и соображениями, Анна Сергеевна незаметно задремала и проснулась только тогда, когда экипаж остановился. Первой ее мыслью было, что они уже приехали на станцию, но оказалось, что экипаж стоит на спуске с горы. Было еще достаточно светло, и нигде не видно было признаков жилья.
- Что случилось? — спросила она кучера.
- А вон баба, значит...
- Какая баба?
- А вон из лесу идет и рукой машет.
- Что ей нужно?
- А кто ее знает... Она махнула рукой, ну, я и остановился.
Действительно, с левой стороны дороги, из редкого соснового леска выходила баба с ребенком на руках, а за ней бежала босоногая девочка лет пяти, с растрепанными белыми волосенками. Нужно сказать, что Анна Сергеевна ужасно боялась «этих детей», которые представлялись в ее воображении живыми препаратами всевозможных детских болезней— дифтерита, скарлатины, дизентерии и т.д. Первой мыслью Анны Сергеевны было то, что баба с ребенком остановила экипаж со специальной целью попросить у нее какого-нибудь лекарства, — ведь «эти дети» всегда чем-нибудь больны и могут заразить Илюшу и Таню в одно мгновение. Она сделала даже знак бабе остановиться и со страхом спросила:
- Постой, не подходи, милая... Дети у тебя здоровы?
- А ничего, слава Богу... — ответила баба.
У Анны Сергеевны отлегло от сердца, и она проговорила уже другим тоном:
- А что тебе нужно, милая? Подходи ближе...
Баба подошла к самому экипажу и как-то особенно быстро заговорила, роняя слова:
- Огоньку, барыня, у нас нет... Муж-то у меня помер на прииске, вот я и еду с ребятами домой... Трое ребятишек-то, а ехать триста верст... Хорошо еще, лошадь своя осталась... Покормим ее в лесу и едем... Вот и сейчас остановилась, надо огонька развести, а спичек-то и нет. Дунька дорогой потеряла... А ежели без огня, так лошадь-то изобьется от овода, да и сами чего-нибудь сварим... болтушку из старых корочек...
Анна Сергеевна внимательно разглядела эту несчастную приисковую бабу, у которой конвульсивно вздрагивали губы, когда она заговорила о покойном муже. И сама какая-то точно вся ободранная: сарафан рваный, платок на голове тряпицей, и даже исхудалое, запеченное на солнце лицо походило на какую-то заплату.
- У вас, поди, и поесть нечего? — спрашивала Анна Сергеевна, приноравливаясь к языку ободранной бабы.
- Какая уж еда, барыня... Вот только бы лошадь поела, а мы уж как-нибудь. Накопала даве саранки (горная лилия), ну, сварю ее в котелке — вот и вся еда. Все же ребята как будто горяченького похлебают...
У Анны Сергеевны мелькнула счастливая мысль. Конечно, твердость характера прежде всего, но в детях необходимо развивать и сердце. Она поцеловала проснувшуюся Таню, так смешно таращившую светлые синие глазки на незнакомых людей, и сказала Илюше, который по своей вялости не проявлял даже законного детского любопытства:
- Илюшка, достань корзинку с нашей провизией...
Мальчик с трудом достал плетеную корзинку и еще с большим трудом открыл ее.
- Девочка, подойди сюда... — приглашала Анна Сергеевна дичившуюся Дуньку.
Мать подталкивала ее, и Дунька взобралась на подножку тарантаса, голодными глазами следя за Анной Сергеевной, которая вынимала из корзинки завернутые в бумагу припасы — пирожки с мясом, вареные яйца, телятину, колбасу.
— Ну, выбирай, Дуня, что тебе нравится, — предлагала Анна Сергеевна, с завистью наблюдая голодную девочку. — Господи, какой завидный аппетит у «этих детей». Если бы Илюше хотя сотую долю такого аппетита...
Но тут случилось нечто совершенно неожиданное: Дунька осмотрела все запасы, напрасно отыскивая своими голодными глазами что-нибудь подходящее, и отрицательно покачала головой. Это движение даже обидело Анну Сергеевну: скажите, пожалуйста, какая разборчивая девчонка... Изволите ли видеть, не нашла ничего подходящего. Вот вам и будьте добрыми с «этими детьми». Впрочем, это, пожалуй, хороший урок Илюше, который так мило предложил Дуньке пирожок с говядиной, а она отрицательно покачала головой и даже спрятала свои грязные ручонки за спиной.
- Н-не-ет... — протянула Дунька, оглядываясь на мать.
- Отчего она не хочет брать? — обиженно спрашивала Анна Сергеевна и прибавила: — у нас провизия самая свежая...
- Нет, она не возьмет... — ответила баба.
- Так вы возьмите и дайте ребятам...
- Тоже не будут есть, барыня...
- Хлеба, наконец, возьмите. Надеюсь, что белый хлеб они у вас едят... У меня есть великолепные сдобные лепешки.
Баба взяла такую великолепную сдобную лепешку, повертела в руках и возвратила назад.
- Нет, не будут есть... все равно... — повторяла она упрямо.
- Это... это... я, наконец, не понимаю! — начала горячиться Анна Сергеевна, оскорбленная в лучшем движении своего дисциплинированного сердца.
Единственным свидетелем всей этой сцены был молодой кучер, смотревший с козел на Дуньку и на барыню с самой глупой улыбкой. Он наконец решился вывести барыню из недоумения и проговорил:
- Она глупая, барыня, значит, эта самая баба... Слов-то у ней нет, чтобы выразить... Пост теперь, значит, Петровки, ну, ребята поэтому и не будут скоромиться.
- А, вот в чем дело... — протянула Анна Сергеевна, для которой все сделалось ясно. — И маленькие не будут есть мяса? — спросила она бабу
- Да ведь и маленькие понимают, барыня, — удивилась в свою очередь баба, что барыня не может понять такой простой вещи.
- Ужо, у меня есть кусочек ржаного хлеба, — говорил кучер, добывая из-за пазухи ломоть хлеба.
- На, Дунька.
Анна Сергеевна сунула бабе какую-то мелочь, коробку шведских спичек и велела ехать дальше. Кучер встряхивал головой и улыбался про себя: дескать, ловко осрамила барыню что ни на есть простецкая баба...
Экипаж осторожно спускался под гору, и Анна Сергеевна несколько раз оглянулась назад. Баба с голодной девочкой стояла еще на дороге, провожая глазами барский экипаж.
«Да, вот как воспитывают характер...» — с горечью думала Анна Сергеевна, наблюдая Илюшу, вяло жевавшего кусок колбасы.
Где-то погромыхивали первые раскаты начинавшейся грозы и начали падать первые капли дождя с сухим шумом, точно кто выстреливал по листве дробью.
Д. Мамин-Сибиряк
azbyka.ru
на обочине тротуара лежал кусок хлеба. Он был очень аппе — 2 ответа
В разделе Домашние задания на вопрос Помогите найти рассказ \"кусок хлеба\" Начало такое должно быть: на обочине тротуара лежал кусок хлеба. Он был очень аппе заданный автором *-* лучший ответ это На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб ещё дышит тёплым ароматом печи. Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил раскапризничавшийся карапуз – кто знает. Бойкий городской воробей нацелился отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару люди… Чей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком – и полетел он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги. Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно – удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил. - Грех!. . Грех-то!. . Большой грех! – раздалось возле. Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, продублённый солнцем и годами. Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль и бережно понёс к ближайшему газону: - Пусть хоть птички поклюют! Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чём? Может быть, он вспомнил голодное своё детство, когда даже на праздники мать подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье восемь ртов и всего две рабочие руки! А может быть, вспомнил убитого кулаками мальчишку из продотряда. Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду человека, труду хлебопашца, всегда нелёгкому, всегда святому! Рукам его сильным и мозолистым, тем, что кормят нас! А. Нуйкин
Ответ от 2 ответа[гуру]Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Помогите найти рассказ \"кусок хлеба\" Начало такое должно быть: на обочине тротуара лежал кусок хлеба. Он был очень аппе
Ответ от Ван Холод[новичек]На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб ещё дышит тёплым ароматом печи.Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил раскапризничавшийся карапуз – кто знает. Бойкий городской воробей нацелился отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару люди…Чей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком – и полетел он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги.Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно – удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил.- Грех!. .Грех-то!. .Большой грех! – раздалось возле.Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, продублённый солнцем и годами.Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль и бережно понёс к ближайшему газону:- Пусть хоть птички поклюют!Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чём?Может быть, он вспомнил голодное своё детство, когда даже на праздники мать подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье восемь ртов и всего две рабочие руки! А может быть, вспомнил убитого кулаками мальчишку из продотряда.Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду человека, труду хлебопашца, всегда нелёгкому, всегда святому! Рукам его сильным и мозолистым, тем, что кормят нас!
Ответ от Игорь прудников[новичек]На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб ещё дышит тёплым ароматом печи.Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил раскапризничавшийся карапуз – кто знает. Бойкий городской воробей нацелился отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару люди…Чей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком – и полетел он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги.Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно – удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил.- Грех!. .Грех-то!. .Большой грех! – раздалось возле.Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, продублённый солнцем и годами.Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль и бережно понёс к ближайшему газону:- Пусть хоть птички поклюют!Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чём?Может быть, он вспомнил голодное своё детство, когда даже на праздники мать подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье восемь ртов и всего две рабочие руки! А может быть, вспомнил убитого кулаками мальчишку из продотряда.Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду человека, труду хлебопашца, всегда нелёгкому, всегда святому! Рукам его сильным и мозолистым, тем, что кормят нас!
Ответ от Stefochka Куриленко[новичек]На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб ещё дышит тёплым ароматом печи.Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил раскапризничавшийся карапуз – кто знает. Бойкий городской воробей нацелился отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару люди…Чей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком – и полетел он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги.Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно – удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил.- Грех!.. Грех-то!.. Большой грех! – раздалось возле.Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, продублённый солнцем и годами.Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль и бережно понёс к ближайшему газону:- Пусть хоть птички поклюют!Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чём?Может быть, он вспомнил голодное своё детство, когда даже на праздники мать подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье восемь ртов и всего две рабочие руки! А может быть, вспомнил убитого кулаками мальчишку из продотряда.Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду человека, труду хлебопашца, всегда нелёгкому, всегда святому! Рукам его сильным и мозолистым, тем, что кормят нас!
Ответ от КРИСТИНА.[гуру]А. Нуйкин "КУСОК ХЛЕБА"--найдёшь в Google.Лучше, конечно, прочитать САМОЙ!
Ответ от Ёветлана[новичек]Кусок хлебаНа обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб ещё дышит тёплым ароматом печи.Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил раскапризничавшийся карапуз – кто знает. Бойкий городской воробей нацелился отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару люди…Чей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком – и полетел он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги.Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно – удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил.- Грех!. . Грех-то!. . Большой грех! – раздалось возле.Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, продублённый солнцем и годами.Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль и бережно понёс к ближайшему газону:- Пусть хоть птички поклюют!Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чём?Может быть, он вспомнил голодное своё детство, когда даже на праздники мать подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье восемь ртов и всего две рабочие руки! А может быть, вспомнил убитого кулаками мальчишку из продотряда.Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду человека, труду хлебопашца, всегда нелёгкому, всегда святому! Рукам его сильным и мозолистым, тем, что кормят нас!А. Нуйкин
Ответ от 2 ответа[гуру]Привет! Вот еще темы с нужными ответами:
Ответить на вопрос:
2oa.ru
Кусочек хлеба (рассказ) — Ольга — Дневник — Православные знакомства «Азбука верности»
КУСОЧЕК ХЛЕБА
...Увлекшись своими материнскими мыслями и соображениями, Анна Сергеевна незаметно задремала и проснулась только тогда, когда экипаж остановился. Первой ее мыслью было, что они уже приехали на станцию, но оказалось, что экипаж стоит на спуске с горы. Было еще достаточно светло, и нигде не видно было признаков жилья.
- Что случилось? — спросила она кучера.
- А вон баба, значит...
- Какая баба?
- А вон из лесу идет и рукой машет.
- Что ей нужно?
- А кто ее знает... Она махнула рукой, ну, я и остановился.
Действительно, с левой стороны дороги, из редкого соснового леска выходила баба с ребенком на руках, а за ней бежала босоногая девочка лет пяти, с растрепанными белыми волосенками. Нужно сказать, что Анна Сергеевна ужасно боялась «этих детей», которые представлялись в ее воображении живыми препаратами всевозможных детских болезней— дифтерита, скарлатины, дизентерии и т.д. Первой мыслью Анны Сергеевны было то, что баба с ребенком остановила экипаж со специальной целью попросить у нее какого-нибудь лекарства, — ведь «эти дети» всегда чем-нибудь больны и могут заразить Илюшу и Таню в одно мгновение. Она сделала даже знак бабе остановиться и со страхом спросила:
- Постой, не подходи, милая... Дети у тебя здоровы?
- А ничего, слава Богу... — ответила баба.
У Анны Сергеевны отлегло от сердца, и она проговорила уже другим тоном:
- А что тебе нужно, милая? Подходи ближе...
Баба подошла к самому экипажу и как-то особенно быстро заговорила, роняя слова:
- Огоньку, барыня, у нас нет... Муж-то у меня помер на прииске, вот я и еду с ребятами домой... Трое ребятишек-то, а ехать триста верст... Хорошо еще, лошадь своя осталась... Покормим ее в лесу и едем... Вот и сейчас остановилась, надо огонька развести, а спичек-то и нет. Дунька дорогой потеряла... А ежели без огня, так лошадь-то изобьется от овода, да и сами чего-нибудь сварим... болтушку из старых корочек...
Анна Сергеевна внимательно разглядела эту несчастную приисковую бабу, у которой конвульсивно вздрагивали губы, когда она заговорила о покойном муже. И сама какая-то точно вся ободранная: сарафан рваный, платок на голове тряпицей, и даже исхудалое, запеченное на солнце лицо походило на какую-то заплату.
- У вас, поди, и поесть нечего? — спрашивала Анна Сергеевна, приноравливаясь к языку ободранной бабы.
- Какая уж еда, барыня... Вот только бы лошадь поела, а мы уж как-нибудь. Накопала даве саранки (горная лилия), ну, сварю ее в котелке — вот и вся еда. Все же ребята как будто горяченького похлебают...
У Анны Сергеевны мелькнула счастливая мысль. Конечно, твердость характера прежде всего, но в детях необходимо развивать и сердце. Она поцеловала проснувшуюся Таню, так смешно таращившую светлые синие глазки на незнакомых людей, и сказала Илюше, который по своей вялости не проявлял даже законного детского любопытства:
- Илюшка, достань корзинку с нашей провизией...
Мальчик с трудом достал плетеную корзинку и еще с большим трудом открыл ее.
- Девочка, подойди сюда... — приглашала Анна Сергеевна дичившуюся Дуньку.
Мать подталкивала ее, и Дунька взобралась на подножку тарантаса, голодными глазами следя за Анной Сергеевной, которая вынимала из корзинки завернутые в бумагу припасы — пирожки с мясом, вареные яйца, телятину, колбасу.
— Ну, выбирай, Дуня, что тебе нравится, — предлагала Анна Сергеевна, с завистью наблюдая голодную девочку. — Господи, какой завидный аппетит у «этих детей». Если бы Илюше хотя сотую долю такого аппетита...
Но тут случилось нечто совершенно неожиданное: Дунька осмотрела все запасы, напрасно отыскивая своими голодными глазами что-нибудь подходящее, и отрицательно покачала головой. Это движение даже обидело Анну Сергеевну: скажите, пожалуйста, какая разборчивая девчонка... Изволите ли видеть, не нашла ничего подходящего. Вот вам и будьте добрыми с «этими детьми». Впрочем, это, пожалуй, хороший урок Илюше, который так мило предложил Дуньке пирожок с говядиной, а она отрицательно покачала головой и даже спрятала свои грязные ручонки за спиной.
- Н-не-ет... — протянула Дунька, оглядываясь на мать.
- Отчего она не хочет брать? — обиженно спрашивала Анна Сергеевна и прибавила: — у нас провизия самая свежая...
- Нет, она не возьмет... — ответила баба.
- Так вы возьмите и дайте ребятам...
- Тоже не будут есть, барыня...
- Хлеба, наконец, возьмите. Надеюсь, что белый хлеб они у вас едят... У меня есть великолепные сдобные лепешки.
Баба взяла такую великолепную сдобную лепешку, повертела в руках и возвратила назад.
- Нет, не будут есть... все равно... — повторяла она упрямо.
- Это... это... я, наконец, не понимаю! — начала горячиться Анна Сергеевна, оскорбленная в лучшем движении своего дисциплинированного сердца.
Единственным свидетелем всей этой сцены был молодой кучер, смотревший с козел на Дуньку и на барыню с самой глупой улыбкой. Он наконец решился вывести барыню из недоумения и проговорил:
- Она глупая, барыня, значит, эта самая баба... Слов-то у ней нет, чтобы выразить... Пост теперь, значит, Петровки, ну, ребята поэтому и не будут скоромиться.
- А, вот в чем дело... — протянула Анна Сергеевна, для которой все сделалось ясно. — И маленькие не будут есть мяса? — спросила она бабу
- Да ведь и маленькие понимают, барыня, — удивилась в свою очередь баба, что барыня не может понять такой простой вещи.
- Ужо, у меня есть кусочек ржаного хлеба, — говорил кучер, добывая из-за пазухи ломоть хлеба.
- На, Дунька.
Анна Сергеевна сунула бабе какую-то мелочь, коробку шведских спичек и велела ехать дальше. Кучер встряхивал головой и улыбался про себя: дескать, ловко осрамила барыню что ни на есть простецкая баба...
Экипаж осторожно спускался под гору, и Анна Сергеевна несколько раз оглянулась назад. Баба с голодной девочкой стояла еще на дороге, провожая глазами барский экипаж.
«Да, вот как воспитывают характер...» — с горечью думала Анна Сергеевна, наблюдая Илюшу, вяло жевавшего кусок колбасы.
Где-то погромыхивали первые раскаты начинавшейся грозы и начали падать первые капли дождя с сухим шумом, точно кто выстреливал по листве дробью.
Д. Мамин-Сибиряк
azbyka.ru
Солнышко – всем (сборник)
© В. А. НИКОЛАЕВ – текст © В. А. ЧУГУНОВ – текст © В. В. СДОБНЯКОВ – текст © В. И. ДАНЧУК – текст © МОФ «Родное пепелище» – дизайн, верстка
И в наш дом вернулся отец. В длинной солдатской шинели, с мешком на плече и с лёгким пустым рукавом. Он вошёл вечером, на закате, когда мы с матерью молча чистили возле пыльного солнечного окна перемёрзлую картошку. Небритый, худой, отец неловко, одной рукой обнял сунувшуюся навстречу мать, улыбнулся, а мешок медленно пополз с плеча, и вот скользнул по рукаву, качнулся на согнутом локте – и улыбка отца погасла… Но всё равно теперь мы были самыми счастливыми людьми в деревне. Ещё бы. – Жив! И другая жизнь пошла в доме: запахло махоркой, резиновым клеем; рыбачьи иголки появились на столе, молоток, рашпиль… На следующее утро отец надел довоенный пиджак, фуфайку и ушёл на улицу. Он долго ходил возле дома, брал в руку то молоток, то клещи, то топор… Всё начинал что-то делать – стукал, тесал, но тут же бросал, брался за другое… за третье. Я ходил за ним по пятам, молча сердился. Но потом понял: «Руку учит…» Поспешной, взбалмошной была та памятная весна. Везде только и слышалось о скорой победе: у колодца, у перевёрнутых на берегу лодок… А вместе с победой отчаянно наступала весна: повсюду таяло, журчало, парило. Днём и ночью летели птицы. Скворцы, привыкая, задумчиво обсиживали берёзы возле дома. Угольно-чёрные с крапленой грудью, будто обрызганной семенами укропа, отдохнув, они начинали высвистывать. Над озером радостно вскрикивали кулики, чайки, плакали чибисы… Всё жило, торопилось. Близилась Пасха, потом Первое мая, но главное – начало рыбного лова: внизу под горой истаивали в озере последние зеленоватые льдины, а мутная вода лезла через тын, размывала огородные грядки. В деревне поговаривали снова о рыболовецкой артели (в войну она распалась), считали людей – и сокрушённо качали головами: одни старики да бабы. И всё же к лову готовились. Каждый – как мог. Мы – тоже. Я не знал, как дождаться, когда отец откроет сарайку, где всю войну хранились наши вентери, сети, перетвор… – Сопрели, поди, – не раз говаривала мать, – крепкие-то все людям поотдавал, как уходил… говорит, может, и не потребуются больше… Пыльные кольца вентерей мы вытаскивали на улицу, растягивали по заулку. Я выискивал дыры, помечал их щепочкой или прутиком. А потом в три руки мы с отцом их зашивали. Дня за два до Пасхи мы осмолили лодку. Многие лодки уж были спущены, завидно качались, тёрлись смоляными боками об игольчатые развалюхи-льдины. Но ещё больше лодок сиротливо так и валялось по-зимнему вверх дном – не конопаченные и не смолёные: хозяева их где-то всё ещё воевали. В воскресенье, когда не надо было вставать и идти в школу, меня разбудили затемно, почти в полночь. На столе слабо горела лампа. – Ну как, рыбак, до чаек встаём? – спросил отец, гладя своей рукой мои волосы. – Поедешь?.. – Да, не трогай, пусть понежится, и так каждый день в школу… – вступилась мать. – Поехали. Эти её слова словно подхлестнули меня: разве я мог отдать кому-либо свой первый выезд с отцом! …И мать осталась стоять на холодном тёмном крыльце под звёздами, а мы по песчаному, затвердевшему от утренника пригорку тихо спустились к озеру. В чёрной воде шевелили ресницами звёзды, по всему берегу слышался сдержанный говор, взвизгивали уключины, мокро чмокали и плескали вёсла… Все торопились отчалить. Оттолкнулись и мы. Я сел в вёсла, отец – на корму, править. Весной наше озеро становилось проточным. И поэтому нас легко подгоняло течением. Между нами куча вентерей громоздилась копной, из-за неё виделась мне только голова отца. Он курил, вглядываясь вперёд. Иногда, когда слышался шум переливающейся воды, начинал толкаться веслом о дно, говоря: – Отжимайсь, отжимайсь… Слышь, бурлит, как с ножа рвёт – грива… Вылезешь на сухо… Светало. Мы проплыли через затопленный кустарник, согнали стаю чирков и оказались на тихой, без течения, воде, окружённой кустами. Рядом никого не было, уключины повизгивали где-то далеко. Отец всё покашливал, оглядывался кругом, брал шест, мерял дно… – Вот тут наша рыба, – сказал он. – Запоминай место. Давай-ка попробуем, пока ветра нет. И мы сбросили в воду первый вентерь. Я с носа, а отец с кормы воткнули притычи крыльев, потом я прыгнул к вёслам, быстро стал отгребать, а отец с кормы натягивал пятник, и кольца, правильно растянутые, с шипением, пузырясь, уходили под воду. И вот над водой остались только три прямых конца притычей. – Вентерь поставлен! Мы сидим и удивляемся, как ловко, согласно всё у нас получилось… Но отец ещё сомневается. Он велит подгрести мне снова, берёт и качает каждую тычку, для верности пристукивает сверху обухом топора. Впритык к этому вентерю мы поставили враздержку другие. Потом невдалеке облюбовали новое место… Ещё не всходило солнце, а уж куча в лодке стала ниже бортов. Лодка полегчала, легко было и нам обоим. Отец что-то мурлыкал, напевал про себя… Я радовался, что теперь будет не тяжело грести. А на реке шла своя жизнь. Там, за дубовыми гривами, уминая под себя воду, шумели плицами пароходы, пугливо вскрикивали гудками – и из-за голых вершин выскакивали белые шапки пара. В прогалах дубняка мелькали цветные флаги на мачтах, играла на всю реку музыка… пароходы шли первым рейсом в верховья. Где-то на реке были сейчас и те лодки, что отчаливали вместе с нами от деревни. И я потихоньку завидовал им. Отец глядел, глядел на дубняк и вдруг, будто угадав мои мысли, пристукнул веслом, сказал: – А что, давай и мы вентеришка три воткнём на стрежне, а?.. – Давай!.. И мы радостные направились туда, где были флаги, музыка, люди… Поднимались по протоке. Здесь течение было такое быстрое, что я грёб почти впустую. Лодка подвигалась только тогда, когда отец подталкивался кормовиком. «Только бы выгрести…» – думал я, нажимая во всю силу на вёсла, а что будем делать дальше, как-то не представлял. И вот, наконец, мы выскочили, я сразу опустил вёсла, будто достиг конечной цели, – и рвущее течение реки так лихо крутануло и поволокло нас, оттягивая на середину реки, что мы оба испугались, схватились скорее за вёсла… Насилу вернулись мы к берегу, снова в протоку. И до чего же быстро нас вышвырнуло обратно в озеро! Здесь вместе с пеной, брёвнами нас тихо кружило на спокойной воде. Мы сидели оба подавленные. Не говорили и старались не глядеть друг другу в глаза… Каждый чувствовал себя виноватым. У меня ломило спину, жгло обе ладони: на них прорвались мозоли. Не хотелось не только никуда ехать, даже – шевелиться. И всё же остаток вентерей мы кое-как поставили… Тоже в тишинке, в озере. По-моему отец даже не выбирал для них настоящего места. Поставил так – лишь бы выкинуть… – Теперь греби помаленьку к дому, – сказал отец. И хотя лодка была пустой, лёгкой, а я грёб изо всей силы, мы едва двигались. Я замечал это по грязному остатку снега на берегу: он всё был напротив нас. Что ж – поднимались против течения. «Если б не мозоли! И зачем захотели в реку? Всё утро пропутались…» – думал я. Рыбаки возвращались домой. Лодки, пеня встречной бурлящей водой, шутя обгоняли нас. Им было хорошо – их правильщики бодро взмахивали кормовиками враз с гребцами и лодки совались вперёд, будто кто подталкивал их из воды. – С помощником начинаешь?.. – кричали с лодок отцу. – Сколько штук воткнули? Отец коротко, как бы через силу, отвечал им, а они удалялись. Подбадривая нас: – Давай, давай… План от рыбзавода большой, всем хватит… И новые лодки посвистывали мокрыми уключинами мимо нас. А я все ниже стыдливо клонил голову, всё упрямей грёб, стараясь не думать о боли в спине и в ладонях. «Только не надо останавливаться… – думал я. – Грести и грести… Пусть проедут, а там повернём к берегу – отдохнём…» – А давай-ка проверим наши первые вентеря! – неожиданно весело крикнул отец и кинул кормовик на дно. – Вдруг попало! Подвигайсь… Он сел рядом со мной, взял одно весло, и мы понеслись наперерез мутно-пенной воде к кустам, где стояли наши первые вентери. Когда вырвались из кустов, я глянул вперёд: на притычах сидели чайки. – «Есть!» – подумалось с радостной надеждой. Первый вентерь оказался пустым. Второй… третий… И вот в четвёртом, как только отец взялся за пятник, притычи крыльев закачались. – Ого… – вырвалось у отца. Он повыше поднял пятник, и вода в вентере с брызгами всхлеснулась… – Хорош… – улыбался отец, поглаживая чёрный небритый подбородок. – Вишь, судак забрёл – не зря мучились… Он присел, вытягивая в лодку кольца вентеря, раздёрнул петлю завязки, ухватил судака, потащил и… вздрогнул от хлёсткого шлепка по воде, от брызг в лицо… – Э-эх-х… – вырвалось с досадой, и стало тихо. Отец медленно вытащил мокрый рукав из прорванного вентеря, сел на корму. Долго глядел, не моргая, перед собой, будто наблюдал, как по краю застрявшей в кустах льдины семенил, нервно подёргивал хвостиком, тиувикал, будто на что жалуясь, одинокий серенький куличок… Судак ушёл… Я вспоминал слова матери и ругал отца: зачем он отдал крепкие вентери людям, а себе оставил гнильё… Отец сидел не шевелясь, положив на колени красную виноватую руку; солнечные капли блестели на его чёрной бороде, на бровях. И он почему-то не вытирал их. Я знал это – нет большей обиды для рыбаков, когда рыбина уходит из рук и ещё плеснёт в лицо… Любой рыбак тут же поспешно утирается, как от позорного плевка. Другое дело – когда рыбина в лодке. Тут рыбак не торопится утираться: он как бы хочет продлить ощущение победы, удачи… Но отец сидел, не утираясь. Он тяжело вздохнул и полез за пазуху; достал сложенную во много раз газету. Зажав её в коленях, он ловко оторвал бумажку. Потом, так же помогая коленями, стал скручивать цигарку. Но бумага, намокая, рвалась, красные озябшие пальцы были неуклюжими. Он бросал, отрывал новые бумажки, настойчиво пытался скрутить… А я и хотел и не мог ему помочь: как-то раз дома, глядя, как мать крутит ему цигарку, я тоже хотел скрутить, но отец строго оборвал меня: – Не смей… а то сам навадишься… Виновато, как-то по-детски, улыбнувшись, отец все-таки протянул газету мне: – Скрути, на… А прикурил сам, зажав коробок так же в коленях. И только когда затянулся, обвёл счастливым взглядом всё вокруг, утёрся… – Ничего… – сказал он, стараясь улыбнуться, и подмигнул мне. Чайки, видя что мы притихли, опускались всё ниже, вновь намереваясь присесть на притычи. Одна из них, спустившись чуть ли не до самой головы отца, страдая, вскрикнула: «Тр-р-ри-и-э!» Отец вздрогнул… Потом, медленно подняв голову, он долго глядел, как она скользит в лёгком спокойном небе, выдохнул: – Э-эх, милые двукрылые… И отвернулся, вытирая кулаком глаза… К деревне мы подплывали одни. Лодки больше не обгоняли нас: все давно возвратились. Подавленные и усталые, мы скреблись возле самого берега. Отец подталкивался шестом. Хотелось есть… Есть хотелось всегда, мы, мальчишки, к этой мысли давно привыкли – ведь шла война. Я грёб, взглядывал на отца, и невесёлые думы шли на ум: «Возьмут ли теперь его, однорукого, в рыбацкую артель? Матери тоже нельзя… Она в войну набродилась в худых сапогах – теперь ревёт от ревматизма. А мне?.. – мне надо в школу… Из-за войны и так пропустил год – хожу только в третий класс…» – Идут… – мрачно обронил отец, глядя по берегу за деревню. Я обернулся. Краем поля медленно подвигались к деревне одинокие сгорбленные фигурки. Передние заходили в деревню, а из-за леска в поле выходили новые люди. Это шли нищие, шли за милостыней… Каждое утро, идя в школу, мы встречали их в поле, многих знали в лицо. Шли они из окрестных деревень и из дальних, иногда вёрст за десять, как поясняли нам матери. Мы их жалели: так они были оборванны, обутые во что попало. Бывало, в зимнюю стужу, оглянувшись, мы видели, как у некоторых сквозь рваные, обёрнутые тряпьём опорки краснеют голые пятки… Было среди них и несколько пленных немцев – высоких, худых, мосластых… И хоть были они теперь тихи, покорны – на них мы глядели колюче, как зверьки. Знали мы, что это они убивают там наших отцов и братьев… Эти пленные жили в бараках в лесном посёлке, работали, как вольные, вместе с нашими людьми и никуда не убегали… Это, последнее, удивляло нас больше всего. Нищие знали, что у нас в деревне живут рыбаки и шли с надеждой выпросить хоть сухую рыбинку, чтобы сварить из неё у себя дома похлёбку. В других деревнях не выпросить было и этого… А сейчас открывалась весна, Пасха, начинался новый рыболовный сезон – и потому шли все с надеждой, шли больше, чем обычно. Дома матери мы ничего не сказали о судаке… – не принято говорить! Мать хлопочет у печки. На всю избу хорошо пахнет свежим, ещё тёплым хлебом. На залавке напротив печи лежит на полотенце небольшой пышный ситник. Хоть он и невелик, но это настоящий хлеб! Из настоящей ржаной муки, а, может быть, даже немного в нём есть и пшеничной! Я пробовал такой хлеб всего один раз в жизни, в тот день, когда пришёл отец. Это не тот хлеб, который всегда пекла мать из перемёрзлой картошки с примесью чего-то овсяного. Тот сам разваливался, а когда начинаешь глотать, то овсяная ость больно царапает горло. «Скорей бы завтракать», – думаю я и подхожу то к залавку, нюхаю хлеб, то опять к окну, гляжу на берёзу, где повесили мы с отцом скворечник. Скворец уже вьёт гнездо, и я радуюсь, потому что в моих скворечниках скворцы почему-то не вили, а поселялись наглые бойкие воробьи. Теперь скворец сидит у своего домика, топорщится навстречу солнцу и раскрывает клюв. Я знаю, что он поёт, хоть через двойные рамы ничего и не слышно. Отец молча курит за столом, глядит в своё окно. А за печью всё хлопает дверь, там кто-то топчется, сопит, потом слышится распевное: – Христос воскре-е-сее… Милостинку ради Христа подайте бедной… Мать вздыхает, чего-то даёт. Вслед за этим слышится робкое «спасибо», неясный шёпот и дверь снова хлопает. Я привык ко всему этому, почти не слушаю, гляжу на скворца. Но всё же меня поражает жалкое, просящее: «… и кусочек хлебца». «Ситник!» – спохватываюсь я и, боясь своей догадки, иду к залавку… От ситника осталась только половинка. «Что же ничего не говорит отец? – думаю я. Чего нам есть?..» Мне хочется реветь, хочется взять этот остаток и не давать никому, самому всё съесть. Я сажусь на лавку, чтобы видеть ситник, и гляжу то на отца, то на мать. Но мать не видит меня, она что-то поправляет в печи ухватом. Отец по-прежнему курит и, наверное, всё понимает, но молчит. Опять хлопает дверь, и из-за печи показывается продолговатое костлявое лицо в рыжей щетине и серой, какой-то необыкновенно маленькой шапке на крупной голове: «Это немец!» – догадываюсь я. Он неумело с левого плеча долго и бодро крестится и вдруг говорит отрывисто, не как все: – Крес воскрес!.. – потом, увидев хлеб, добавляет, – хлебка, хлебка… – и кивает на ситник. Мать вздыхает, берёт нож, отрезает от ситника тонкий скрой, но вдруг вздрагивает, оглядывается на нас. Я испуганно перекидываю глаза на отца, – а он давно уж в упор глядит на меня, и рука с цигаркой у него мелко дрожит. Мать медленно тянет ситник обратно к залавку, замирает и спрашивает робким голосом: – Так что… давать ли?.. Отец молчит, потом очень спокойно кивает на меня: – Как он… Некоторое время в избе тихо, слышно, как трещит у отца цигарка. – Вон картошки дай… и всё… – наконец, не поднимая головы, выдавливаю я. Мать берёт из парящего чугунка с пола четыре картошины и кладёт немцу в подставленную шапку. – Спасиб, спасиб… – раскланиваясь, говорит немец. Тут же кое-как торопливо чистит одну картошину и, обжигаясь, ест. Я с нетерпением жду, когда он уйдёт. Но он всё стоит, ждёт хлеба. Потом, догадавшись, быстро поворачивается и хлопает дверью. Мать, схватив щепотку соли, догоняет его в сенях. Оттуда слышатся какие-то резкие, непонятные мне слова, похожие на собачий лай. – Ох, господи, разве на всех напасёшься, – вернувшись, говорит мать и ссыпает соль обратно в чашку. Ну, может, в других домах подадут… – добавляет задумчиво. Потом берёт отрезанный кусок и отдаёт его мне. Я спрыгиваю с лавки, подхожу к окну и помаленьку откусываю хлеб, который тает во рту. Отец молча глядит в своё окно. А скворец на берёзе всё ярится. Мне жаль, что отец не видит его, не видит, как он весь трепещет, и солнце висит прямо над его чёрной крапчатой головой… Я уже забыл о немце. И вот вижу его в окне. Разбрызгивая грязь, он быстро уходит серединой дороги, не сворачивает, не обходит луж. Идёт он уже из деревни, хотя наш дом всего лишь второй с краю. Только теперь замечаю, что одна нога у него в подвязанной калоше, другая в растоптанном рваном ботинке. Пустая котомка плоско прилипла к изодранной спине. Бросив цигарку и взвизгнув стулом, отец вскакивает, кидается к залавку. Схватив нож неумело давит им на прижатый к стене ситник и, кое-как отпилив кусок, кричит, протягивая его мне: – Догони и отдай! – Ему? – спрашиваю я глазами и не знаю, что делать. Очень медленно беру кусок, но всё стою. – Беги! – кричит отец. Меня разрывает зло, а я ещё больше распаляю себя; «Они ж тебе руку… Ну отдай, отдай всё! Весь хлеб, все вентери… Будем сидеть без рыбы, без хлеба. Пусть…» Немца я догоняю в поле. Забегаю вперёд и зло выбрасываю перед ним руку с куском: – На!.. – Найн! – резко, как отрубает, отмахивает своей рукой немец и ещё твёрже нашагивает вперёд. – Гад! Не ходи больше… – на всякий случай кричу ему вслед и, как камень, сжимаю в руке кусок. Вольный густой ветер пузырём надувает мою рубашку колышет редкие просыхающие на межнике былинки… И всё сверлит, точит высокое небо беззаботной своей песенкой лёгкий жаворонок. Я слышу его, как во сне. Всё это вспоминается мне, как во сне. Встают перед глазами светлые дни моего детства, той счастливой поры, когда не помнишь, что было раньше, а что потом, и, в общем-то, это не важно, в памяти отчётливо сохранились лишь эти коротенькие эпизоды, но такой удивительной яркости, что хорошо помнятся даже запахи, выражения лиц, глаз, голосов, как это бывает только во сне. Но сон этот – детство, которое, чудится мне, начинается с того цветущего сада, за глиняной стеной хлева, с соломенной крышей, с того дубового бревна, на котором, отдыхая от косьбы, сидит дедушка Миша и, щуря подслеповатые глазки, смотрит на блестевшую в грядках укропа, моркови, гороха росу. Я сижу рядом в чёрных трусишках, босенький, усердно натягиваю их на покрывшиеся коростами колени и зажимаю большим пальцем пупок, кажущийся мне чем-то лишним на моём гладком, сытеньком животе. – Что ты его припёр? Ай стыдишься? Не тро-ож, – говорит дедушка. – Ты, мил человек, через него мамку в утробе сосал, и это тебе знак, что «земля еси и в землю отыдеши», когда помрёшь. – Да разве и я помру, деда? – Нешто ты лучше других? Все помрём, милок, – говорит спокойно дедушка. – Одни прежде, другие немножко погодя, конец один. Я вспоминаю серое лицо старшего маминого брата, которого хоронили прошлогод, как выражается бабушка, и спрашиваю: – И всех-всех – в гроб закопают? – Все-эх, – равнодушно отвечает дедушка. Я смотрю на него, и меня страшит его спокойствие. Бабушка, половшая неподалёку морковь, с трудом разгибает спину и говорит: – Ты что робёнку пугашь? – Чевой-то я его пугаю? – возражает дедушка и, поворачиваясь ко мне: – Ты ай напугался, милок? – Нек! – храбро отвечаю я, и, задыхаясь от переполняющего меня чувства хвастливости, говорю: – Я и собаков даже не боюся, и коровов не боюся, и гусей не боюся, я даже всех волков не боюся… – Пра-авильно, – останавливает меня дедушка. – Волков бояться – в лес не ходить. А человеку нужно правильное понятие о жизни иметь. Так? – Я согласно киваю головой. – Ну вот. А ну сказывай живо: отколь дети берутся? – Из животов! – бойко отвечаю я. – Та-ак, – одобрительно кивает головой дедушка. – А каким Макаром они туды попадают? – Ветром надуло! – отвечаю я дедушкиными же словами, когда он на бабушкино сообщение о том, что какая-то «Евдокея опять забрюхатела», сказал: «Никак, ветром надуло». – Молодец! И дедушка гладит меня по голове. Бабушка качает головой и безнадёжно вздыхает. А я размышляю о том, что животы, вероятно, появляются лишь у тех женщин, которые ходят разиня рот. На горизонте, немного левее задымлённого туманцем солнца, из бобовой грядки показывается светлая и жёсткая, как солома, Сашина шевелюра. Сашок мне двоюродный брат, я у него в гостях, ему пять лет, и он на год младше меня, под мышкой у него деревянная сабля, в руках бобы. – А-а, явился? – сразу строжеет дедушка. – А ну, живо сказывай, куда табак с протвиня подевался? – А я столи столозом яму нанималса? – спокойно отвечает Сашок, жуя бобы и подшмыгивая зелёные сопли. – Чего-чего? – Сево слысал. – Опять разговорчивый стал? Ну-ка, подь сюды. – Сас! Лазбезалса. Дулака насол. – Видит Бог, не хотел, а придется тебя высечь. – Поплобуй. Зыть столи надоело? – Ещё как попробую! И отцу накажу, чтоб добавил. – Не сказыс. – Скажу. – А я тада тибя залезу! – Это ещё что за разговоры? – наконец, возмущается бабушка. – Ты что несёшь, изверг? Ты думаешь, с кем разговариваешь? Ты… Я тебе щас покажу… Я те покажу… Она быстро пробирается меж грядок. Сашок летит сломя голову и ныряет в заднюю калитку. Захватив с бревна одежонку, бегу следом, зная, что сегодня ему попадёт. Прежде чем скрыться за баней, Сашок оборачивается и, размахивая саблей, кричит: – А твой селтов Хлусев кукулузы насазал! Э-э! – И бежит дальше. Кукуруза – больная дедушкина тема. Дня не проходит, чтобы дедушка не обругал и кукурузу, и «кукурузника». Сашок прекрасно знает об этом, знает, чем досадить дедушке. Одним словом – изверг. На задах, за баней, недалеко от мусорной ямы, наш шалаш с видом на кукурузное поле. У входа – огромное железное колесо от сенокосилки, которое мы недавно прикатили с колхозной конюшни. Внутри, на соломе, свернутый змейкой, с хлопком из настоящего конского волоса, маленький кнут, которым Сашок хлопает, как заправский пастух, а я почему-то всё время – себе по шее, да так больно… – Холос, – говорит Сашок, запихивая в рваную полевую сумку свежие початки кукурузы, – ухозу в голод к тете Масы. Вылосту, зынюу-усь и буду на масыне лоботать. – А меня покатаешь? – А как зы! – говорит Сашок, подбирая сопли. – Я слазу на двух масынах буду лоботать. На одной, как у дядь Толи. – У папы? – Ага! А на длугой, как у Петлухи в буквале – «ЗИМ» называца. Сашок тревожно прислушивается, поднимается и поддёргивает штаны. Мы идём сначала задами. Наш нижний порядок вдоль одноимённой деревеньке речушки, как все говорят, Козэвки. Мы перебираемся по шатким жердям через речку, хотя есть нормальный деревянный мост, с перилами, и тропинкой в бурьяне поднимаемся на холм, где в два ряда расположен верхний порядок. Внизу до рези в глазах сверкает Козэвка, заляпанная лаптями кубышек, на которых частенько дремлют жабы. Сашок безжалостно расстреливает их из рогатки каждый день, чтобы шёл дождь, а дождя почему-то всё нет и нет. За деревней – поля, сияющий, как осколок солнца в траве, пруд, тонкая прослойка леса, какое-то огромное село с голубенькой церковью, опять холмы и целые нагромождения облаков. Куда ни глянь – кругом небо, просторы, подёрнутые сизой дымкой дали. И сердечко моё стучит от восторга, как у воробья. Из-под лопухов неожиданно вылезает будто специально вывалявшаяся в пыли Светланка Козлова. Глядя на решительную нашу походку, на сумку, спрашивает: – Кудай-то вы настробучились? – На кудыкины голы, где зывут волы, – не останавливаясь, небрежно отвечает Сашок. Светлакнка бежит за нами, дергает меня за руку. – Ну куда, а, куда? – В город, – важно отвечаю я. – И я хочу. Можно? – Ыссо баб нам не хватало! – презрительно роняет Сашок. Светланка обижается. – Сам ты баба! – Не-э, – останавливаясь, возражает Сашое, – я музык! И вытирает рукой сопли. Светланка начинает дразниться: Неотвожа, красна рожа,На татарина похожа!Семьсот поросят —Все на Саньке висят! Сашок кидается за ней. Светланка летит, сверкая пятками, по улице. Потом останавливается и, вываливая язык, кричит: – Э-э! Э-э! Всё расскажу, куда подалися! – А я тада тибя залезу! – грозит ей кулаком Сашок. – Куда залезешь? – не понимает Светланка. – Не залезу, а залезу! – Дурак! То залезу, то не залезу! – кричит она и, мотнув жиденькой косичкой, исчезает в проулке. Мы двигаемся дальше. За деревней идём дорогой вдоль ржаного поля. Пыль обжигает ступни, брызжет по сторонам. Мне жарко, хочется пить. Я вспоминаю бабушкин квас, что всегда стоит в сенях в маленькой кадушке, ядрёный, холодненький, только из погреба. Зачерпнёшь, бывало, деревянным, вырезанным дедушкой из липы ковшом и тянешь, пока не задохнёшься. И застреляет в нос, и выступят на глаза слёзы. – Квасу бы, – говорю я. – В голоде напьёмса. – Это ещё когда… я щас пить хочу. Мы останавливаемся, оборачиваемся и смотрим на деревню, от которой отошли с километр. Мне становится страшно: а ну заблудимся. Идём дальше. Навстречу едет телега, на телеге дяденька, в чёрном, сильно поношенном пиджаке, накинутом на голое тело. На груди татуировка – восходящее над морем солнце. На голове видавшая виды кепка. Увидев нас, дяденька подбирает вожжи. Лошадь и так, казалось, спавшая на ходу, останавливается и, свесив морду, закрывает слезящиеся глаза, которые тотчас облепляют мухи. – Это куда гавша намылилась? – весело спрашивает дяденька. – Ну чё примолкли, моряки, языки проглотили? – В голод… зыть… – неохотно отвечает Сашок. – Ишь – в го-ород. От времечко настало – всем городов подавай! А тут вам что не живётся? – А сто, с голоду столи тут сдохнуть? – огрызается Сашок. – А кто помер-то? – сдерживая улыбку, возражает дяденька. – Кто? – мы молчим. – То-то! Не те ноне времена. Прежде – было, а теперь… Теперь… эт-та, как эт-та… А! «Всюду жись привольна и широка…» О! – осклабился он. – Учитесь, пока живой… Закурите? – Мы не курим, – говорю я, заметив, как Сашок сразу навострил уши. – Это правильно! Курить – здоровью вредить! – И, достав папироску, словно мы его упрашивали, говорит: – Ладно уж, полезайте в телегу. Повезу как графьёв… Поживёте малость, пока женилки подрастут, а там хоть в город, хоть за город. – Какеи ыссо зынилки? – А вот приедем на конюшню, я те покажу, какие. Мы забираемся по оглоблям на телегу. Дяденька дёргает вожжи. Некоторое время едем молча, и меня начинает клонить в сон. Возница взглядывает на нас и по-армейски командует: «Запе-вай!» Сашок на это мастак. С неба звёздоска упалаПляма жне в калосыну.Не пойду в колхоз лоботатъЗа одну калтосыну. – Во-от, это я одобряя-аю! Молодец! Сашок, польщённый, улыбается и затягивает следующую: С неба звёздосъка упалаПляма Гитлелу на нос.Вся Амелика узнала,Сто у Гитлела понос. – Правильно! Так, его, курву, так! Сашок выводит следующую:В систож поле ветел свиссет,Солок гладусов молос.На помойке нисий длиссет —Плохватил яво понос. – Чёй-то они у тебя все распоносились? – Натлескались сиво-нито! На конюшне дяденька снимает нас по очереди с телеги и говорит: – А теперь марш домой! – А зынилку посто не показыс? – Женилку? – немного озадаченно чешет затылок дяденька. – А это тебе тятка покажет. Как придёшь домой, сразу проси: покажи, тятя, женилку. Он те и покажет. Не помню, спрашивал Сашок или нет, но взбучку получил хорошую и, забравшись ко мне на печь, вытирая слёзы, сказал: – Я их всех залезу.* * *
– Ба-аб, а баб, ну расскажи… – клянчу я. – Ай, не умаялся за день-то бегамши? Не спится, что ль? Не знаю, голубок, чего тебе ещё рассказать… Говорено-переговорено… Ну, да ладно, слушай, коль не спится. Буду со стола прибирать да сказывать… Шли, стало быть, мы раз обозом в город сено торговать. Рано вышли. И немало прошли. Да с обеда потянуло отколе-то ветром, небо заволокло, повалил снег. Враз стемнело. Хоть глаз выколи – в двух шагах ничего не видать. Дорогу смело, куда ехать, Бог знает. Становимся на ночлег, лошадей выпрягли, к сену подпустили. Сами скутались на возу. Михал Демьяныч мой захрапел, а я скрозь щёлку дивлюсь, как это снег играет. Вдруг из метели как образина какая: ведьма не ведьма, кикимора не кикимора, а такая, как бы не соврать, страшила несусветная, не приведи Господи кому увидеть. Космы-ти по ветру вьются длинныи, на концах узлы завязаны, глаза огнём горят синим, как порой уголья в печи, а лапы ну ровно медвежьи. Как это она меня схватит! Как это я закричу!.. – бабушка выдерживает томительную паузу, чего-чего не вообразится в это мгновение, а она: – Ну и проснулась, конечно. Глянь – мамыньки родные! – на снег без боли глядеть нельзя! Небо – окиян опрокинутый! Сани привалило с боков. Мне: «Штой-то ты, Марфа, кричишь?» – «Образины, мол, напужалася». Смыкаются веки, урчит под мышкой Барсик, попискивает над ухом голодный комар. Хорошо! Кончается одна история, начинается другая. Голос певучий, ровный. – … и тогда выполощет матушку сыру землю, аки скорлупу яичную, аки девицу непорочную, аки харатью белую, аки вдову благочестивую. И будет тогда всё не так. Не будем мы боле ни сеять, ни жать, ни косить, ни молотить, потому как всё само собой расти будет… – И кукулуза? – А ба! И этот не спит! – всплёскивает руками бабушка. – А ну живо спать! Гляньте в окно! Слышите, стучит? Слышите, ходит? – Она сама стучит по стеклу, топает ногами и спрашивает: – Кто там? А-а, это ты, Дрёма? Ну-ка, ну-ка их… – и говорит нараспев: Ходит ДрёмаВозле дома.Ходит СонБлиз окон.И глядят:Все ли спят? Бабушка задувает керосиновую лампу, становится темно и в темноте страшно. Мерещится это лохматое, косматое, рогатое чудище Дрёма, заглядывающее в наше оконце. – Слысые? – Ага. И мы натягиваем на головы байковое одеяло.* * *
Просыпаюсь на печи. В окно падают первые пучки зари, тихо в избе, таинственно. Бабушка стоит на коленях перед киотом. Теплится лампадка, едва освещая почерневший лик. Все ещё спят в доме. Мне хочется окликнуть бабушку – и не смею. Не смею нарушить ТО, что происходит с ней. Мне становится страшно, я опускаю голову на подушку и смотрю в потолок на ползающих по нему сонных мух, прислушиваюсь к таинственному шёпоту. – Господи! Царица Небесная! – доносится до меня её тихий, трогающий до слёз голос. – Как же всех жалко-то! А сколь горя, страданий, слёз. А как трудно жить. Как спасатися? Так тяжко порой дышать, Господи, Царица Небесная!.. И это – «тяжело дышать, трудно жить» – наполняет моё детское сердечко жалостью и недоумением. «Тяжело дышать, трудно жить» – ничего этого мне ещё не известно: мне легко жить и дышать. Я и не подозревал до тех пор, что кому-то тяжело дышать и трудно жить, когда мне так хорошо, так весело живётся. Слёзы навёртываются на глаза, мне жаль бабушку. «Бабушка, миленькая, – думаю я, – вот вырасту, стану большой, буду за тебя огород копать, полоть, а ты сиди, отдыхай…» Когда я выглядываю другой раз, бабушки уже нет в комнате. И тут я вижу на полу свежую траву, веточки берёзы в крынке на столе. Уходит дедушка – наш черёд пасти стадо, следом, зевая во весь рот, тётя на дойку, потом дядя, работавший в колхозе пастухом. Бабушка выходит в чулан и вскоре появляется «в рукавах» (самотканой льняной коричневого цвета, в клеточку, кофточке), в туго повязанном на глаза белом платке и длинной, тёмно-синей в горошек ситцевой юбке. Заметив, что я не сплю, зовёт: «Айда со мной в церкву?» – А Сашу возьмём? – А ну его. Озорничать только. Не трожь, спит. Я слезаю с печи, одеваюсь. Прошу покушать, но бабушка говорит, что нельзя, а после «обедни» будет можно. Я не знаю, что такое «обедня» и почему до неё нельзя есть, но расспрашивать не решаюсь: значит, так надо. Мы выходим. Утро туманное, солнце плавает в мутных клубах. Туман то подымается, то опускается. – Коли подымется, дождь будет, – рассуждает вслух бабушка. Мне весело, я забыл про свою недавнюю жалость к бабушке и скачу впереди то на одной, то на другой ноге. Наконец, падаю и до крови сдираю коленку. Бабушка сердито берёт меня за руку и не отпускает до конца пути. За деревней к нам пристают ещё несколько старушек, и разговор заходит о житье-бытье, о том, что сыновья и внуки табунами бегут в город, в Бога не веруют, сосут папироски, матерятся, венчаться не хотят, «тэтак в блуде и живут», видать, и впрямь настают последние времена… У паперти толпится народ. Церковь деревянная, в каменной ограде, среди высоченных лип, в зеленой вязи которых вольготно грают грачи и галки. Воробьи неприкаянно носятся над землёй. На колокольне с заколоченными окнами сидят голуби. Время от времени они слетают вниз, где у огромной деревянной бочки с водой им сыплют на землю семечки. Мы входим в церковь, и тут – свежая трава на полу. Молоденькие берёзки стоят в дверях, у икон, у распятия, в трапезной, у алтаря, у бокового выхода. Свет пыльно сочится в высокие, с решётками окна, в боковую дверь, и достаёт до аналоя, на котором лежит икона с изображением сидящих под дубом, за низким столом трёх Ангелов. Все кланяются друг другу, иные звучно целуются. Начинается служба. Я помню только начало и обрывки, потому что, присев на ступеньку, напротив алтаря, тут же уснул, прижавшись к перилам. И, просыпаясь иногда, как из-под воды, улавливал неслаженное пение клира и голос священника, которому в ту пору было, наверное, лет девяносто. Он был так худ и так слаб, что едва переставлял ноги. – Вставай, вставай скорей причащаца, – будит меня бабушка. Складывает крестообразно на груди мои руки, подводит к батюшке, стоящему на амвоне возле маленького столика, на котором стоит серебряная чаша. Поддев дрожащей рукой длинной серебряной лжицей что-то из чаши, он протягивает мне, как показалось, кровь и говорит: «Причащается младенец…» – и называет моё полное имя. Затем мне дают кусочек просфоры, и я запиваю его тёплой сладкой водичкой. – Ай, какой молодец! Ай, какой умненькай! – льётся со всех сторон, и я гордо задираю голову, хотя и не понимаю, за что меня хвалят. – Ну вот, – подходит ко мне Гриша-дурачок или убогий, как зовут его в деревне, лицо у него румяное, сытое, глаза карие, ясные, бородка курчавая. Ко всем подряд он нанимается в работники. Ни разу я не видел его унылым. Когда его просят прийти пособить, он всем отвечает: «Хорошо, если не помру я только!» И так весело при этом улыбается, словно помереть для него – плёвое дело. – Ну вот, – говорит он, – теперь и помирать можно! – Таке молоды и помирать? – возражает бабушка. – А чего бы чай и не помереть? – без всякого трагического оттенка в лице отвечает Гриша. – Помер – и прямиком в рай! – Ишь, куда намылился! В рай! Рай-от заслужить сперва надо. В рай! – беззлобно ворчит бабушка, хотя ей самой очень хочется попасть в рай. Уж я-то знаю. Уши она всем этим своим раем прожужжала. Я даже немного представляю, что такое рай. Когда у бабушки в избе все прибрано, чистенько и светло, она вздохнет, бывало, и с тихой улыбкой на лице скажет: «Иш ведь, райко-то как!» Но почему она пожалела своего рая для Гриши, я понять не мог. Или это была не жалость? Тогда что? Потом была длинная «вечерня», во время которой все стояли на коленях, на четвереньках, а я даже полежал на свежей травке. Во время этих стояний батюшка сам, стоя на коленях в открытых Царских вратах, дрожащим слабым голосом читал длинные молитвы, смысла которых вряд ли кто понимал, но слушали, благоговейно склонив головы. Но всему на свете приходит конец. И вот уже народ затеснился к «кресту», а затем посочился в распахнутые двери. С утра было теплее, а теперь небо сплошь затянуто тучами, ветер дует сырой. Бабушка, не обращая внимания на моё хныканье, тащит меня за руку так, что я едва успеваю переставлять ноги, но так и не утягивает от дождя. Он застаёт нас на полпути. Налетает шумной плотной стеной, взрывает мучнистую пыль. Становится холодно, зубы мои постукивают, и я уже не прошусь отдыхать. И как хорошо, как приятно потом забраться на печь, напившись горячего молока с мёдом, упасть в овечьи шкуры и тотчас уснуть. Просыпаюсь к вечеру совершенно бодрым. Всё бывшее кажется сном: и церковь, похожая на берёзовую рощицу, и невесомое порхание огоньков у иконостаса, и неслаженное пение старушек на клиросе, и трогательный голос батюшки: «О благорастворении возду-ухов… О все-е-ех и-и за-а вся-а-а…» Раздвигаю занавески: за столом сидит бабушка с какой-то женщиной, что-то вроде нищенки или погорелой, в потёртом чёрном пиджаке, как у дяденьки-возницы, в чёрном платке. Бабушка подливает ей в глиняную миску похлебки, женщина аппетитно ест и рассказывает: – А руки у Антихриста будут волосатыи и будет он поэтому в белых перчатках. Прикинется милостивым, а внутри волк. Волк в овечьей шкуре. И как скажут: «Перепись!» – стало быть, конец. И тогда солнце померкнет, луна превратится в кровь, и запылает земля от востока до запада… Но верным рабам огонь тот не повредит, как трём отрокам, которых в печь огненную бросили, а к ним Ангел небесный сошёл, и ходят они посреди огня и поют! А… – тут она подымает голову, и мы встречаемся с ней глазами. Водворяется мёртвая тишина… И далее разговор их переходит на шёпот. Мне страшны эти слова, как сказка про Соловья-разбойника. Но и на того была управа – Илья Муромец. А коль и вправду всё так будет, придёт Илья и победит Антихриста.* * *
Только садимся за стол, распахивается дверь и вбегает тётя Валя. – Ой, мам, что там деется-то! Бык взбесился. На пастбище корову задрал. Пастухи вступились, так он их давай гонять. Страху что натерпелись! Насилу в калду заманили со стадом. Коров на дойку во двор загнали, так он и один на дворе беситса. Пристрелить бы, да как без председателя? Поди, докажи потом. Степан верхом в Егорьевское ускакал. Нас с Сашком словно ветром выносит из-за стола. Прибегаем на ферму. Толпа народу: мужики, бабы, дети. В калде, у огромного лопуха, стоит огромный белый бык, с железным кольцом в ноздрях. Глаза кровавые, страшные, он ревёт, высуня язык, кося глазом и пуская пену. Копает под собой землю, поводит рогами. Две собаки крутятся перед его мордой. Пастухи подзадоривают их. Мужики ругаются, другие спорят, бабы охают и ахают, дети визжат от восторга. Кто-то кричит: «Едет!» Обернувшись, вижу подъезжающую двуколку, а в ней председателя в пиджаке, фуражке и сапогах. Подъехав, он лихо соскакивает на землю, выхватывает из пролётки ружьё и, нагнувшись, между жердей залезает в калду. Подходит близко к быку, который сразу затаился и притих, взводит курки и почти в упор выстреливает быку прямо в лоб. Бык падает на передние колени, качаясь, валится на бок и, задрав голову, сучит по земле ногами. Поднимается пыль. Изо лба фонтаном бьёт густая чёрная кровь, заливает морду, землю вокруг неё. Мне жалко животное, я хлюпаю носом и со страхом кошусь на председателя, который стоит в задумчивости, держа в руке ружьё стволами вниз. Они дымят. Быку сразу перехватывают горло и начинают свежевать. – Племенной, зараза… – говорит председатель и, вскочив в пролётку, уезжает. Мы с Сашком бредём домой. На пути нам попадается телега с задранной коровой. Брюхо у неё пропорото от паха, торчат сломанные рёбра. – А мне так совсем не стласна, – хорохорится Сашок. – Я б ёво залазу с пулемёта – тла-та-та-та…* * *
Жарко пылает костёр. В тоскливой дрёме, положа морду на лапы, поскуливает Волчёк, иногда вскидывается, прислушиваясь к ночным крикам пивика, шорохам, ржанью и храпу коней. Жабы заливаются в болотце, лес кажется совсем близким, страшен и тёмен. Я сижу, ткнувшись подбородком в колени. Приятно калит лицо, не оторвать глаз от огня, так и тянет протянуть руку и поймать взивающиеся к небу искры. Ночь такая тёмная, такая тихая, что кажется, кто-то стоит неподалёку в ожидании, когда потухнет костёр. Мы с Сашком сидим рядом с дедушкой. Гриша против нас, по ту сторону костра, лицо его раскраснелось, глаза расширились то ли от ужаса, то ли от вранья. – Ходили летось бабы по ягоды, – говорит он, – да заплутались маненька. Кричат – ау. И им – ау. Оне туды. И приаукали к болоту. Допетрили, что леший их кружит, перепугались до смерти. А сорока над ими: «Тр-р-р, тр, тр…» Чуть живёхоньки из лесу-то вышли. – Бре-эхня-а, – говорит дедушка. – Никаких таких лешиев нет. – А домовые? – И домовых нету. – Ан есть, Ляксеич. На себе испытал. Лёг это раз в сенях не там, где обычно сплю, так ночь, как придавит, не вздохнуть, не пер… – и глянув на нас: – Ну да… Руки как плети, а он, гад, и трётся своей кошачьей мордой, под ладонь, зараза. Лезет. Насилу отвязался. Маманя баит, не любит, когда в доме непорядок. – Ты это ври, да не завирайся, – говорит спокойно дедушка. Кто-то мелькает над самым костром и с писком кидается прочь. Гриша смотрит, вытаращив глаза и разиня рот. – Аяй!.. А вправду, Ляксеич, бабы сказывают про Ивана Зыбина, что колдун? – Ванька-то? Дурак, скорее всего, а не колдун, – уверенно отвечает дедушка. – Бабы врут, а ты уши развесил, тетеря. – Ну не скажи… Помню, раз шёл к нам, а я в окно усёк и перекрестил дверь. Так на воле стал и кричит: «Гришка, подь сюды, дело есть!» – «Ступай, говорю, в избу». «Да плево дело, выдь на минуту!» Я «Живые помощи» про себя давай читать, выхожу, а он – тресь себя по башке: «Хлеб в печи забыл!» – и тягу. – Мели, Емеля, твоя неделя. Хлеб в печи забыл… Придумает же! Глупее ничего придумать не мог? – по обыкновению равнодушно возражает дедушка. – Ступай за хворостом! – Ты чё, Ляксеич, не видишь, время какое? Луна над погостом. Леший след спутает, заведёт в болото да утопит. – Гляди, беда какая! Одним лешим станет больше, а болтуном меньше. Гриша обижается и отворачивается, с достоинством поглаживая бородку. Но обида вскоре забывается, и он начинает новую историю. Мы слушаем с жадным любопытством, косимся на лес и жмёмся к бесстрашному дедушке. Сашок засыпает. Я никак не могу заснуть, сердечко моё трепещет. Я смотрю на луну, на погост – и на меня нападает ещё ни разу не испытанный страх перед могущественной злой силой, от которой некуда деться… Но всходит солнце и рассеиваются страхи вместе с темнотой, преображается мир, особенно радостно в нем после жуткой ночи, и костёр, казавшийся недавно единственным спасением, теперь выглядит жалко, как ядовитое пятно на теле земли.* * *
Солнце перерезано пополам тонким сизым облачком, стоит над самым горизонтом, ниже того места, где расположен верхний порядок. Оно бледно-розовое, призрачное, печальное, тихое. Лёгкие сумерки, ни ветра, ни шороха. С той стороны, где мы с Сашком предполагали город, отдалённо доносятся весёлые девичьи голоса и переборы гармони. Это из соседней деревни идёт в нашу на гулянье молодёжь. Мы с Сашком сидим на крылечке Светланкиного дома. Светланка в чистом платьице и всё поглядывает на меня. Весёлая процессия входит в деревню. Девки идут, взявшись под руки, во всю ширину. В середине высокая, чернобровая, черноволосая, не знаю, как её звать, и назову хоть Шурочкой. Голос её сочный, густой. Парни точно так же, только не под руки, идут следом. Гармонист между рядов. По ту и другую стороны, кто на завалинках, кто на лавках или как мы на крыльце, сидят старики и старухи. Точнее, почти одни старухи-вдовухи, потому что стариков в деревне всего пять. Поют частушки в основном девки, парни отвечают редко, а вот семечки грызут бойко. У милёнка моегоПоговорочка на «о».Он на «о», и я на «о»,Всё равно люблю ёво! Сашок лыбится во всю ширину рта. Светланка не переставая косится на меня – и меня это начинает беспокоить. Гармонисту за игру —Табуретку синюю.Четыре сына, восемь дочекИ жену красивую. Парни смеются. Светланка ёрзает и будто нечаянно задевает меня плечом. Я отодвигаюсь, показываю ей кулак и говорю: «Ещё раз толкнёшь, получишь!» – «Сам получишь!» Хриплым пропитым голосом запевает гармонист: У меня девчонок много,Как в корзиночке грибов.Только я с одной имеюНастоящую любовь. Ему тут же отвечают: Гармонист у нас хороший,Я его приворожу:Я возьму и на гармошкуДве ромашки положу. Дойдя до конца деревни, возвращаются назад. И так до наступления темноты. Солнце давно уже скрылось за холмом, стала темнее полоска леса, показываются звёзды. Кое-где уже светятся едва приметным заревом оконца. По одному расходятся старики и старухи. Песни тонут где-то за деревней. Мы с Сашком идём домой. И я очень рад, что, наконец, избавился от Светланкиного внимания. Мы спускаемся проулком и выходим на зады. Вдруг Сашок замирает и шепчет: – Слысые? – Чего? – шепчу и я. – Сопот слысыс? Спускаемся ниже. За усадами, в бурьяне, стоит с кем-то Шурочка. Я сразу узнал её по голосу. – Ты ай белены объелся? – говорит она кому-то. Шёпот. Возня. Шлепок. – Ой! Ктой-то там? Мы с братцем летим вниз, и ноги мои едва за мной поспевают. Вслед нам летит разбойничий свист. Мы перебираемся по жердям на ту сторону, и на родном берегу мне становится спокойнее. – Чего это они там? – спрашиваю я. – Зазымаюца. – Зачем? – Ну спелва зазымаюца, апосля зеняца.* * *
Едем в лес за сеном. Бежит вдоль ржаного поля пепельная лента дороги. Лошадь идёт бодрым шагом, ровно катится по мягкой пыли телега. Пыль летит из-под копыт, брызжет в стороны. По ржи волнами ходит ветер, приятно обдувает лицо, шею, и если бы не строка, было бы полное блаженство. Откуда-то сверху льётся пение жаворонка. Задираю голову и вижу крохотную дрожащую в небе точечку. Правит Сашок, и время от времени покрикивает, как взрослый: «Посла! Но, лазлази тибя глом! Я кому говолю? Посла, говолю! Халела!» Я сижу рядом и краем уха слышу разговор деда с дядей. – Я тебе, Степан, давно не указ, у самого дети малые, но как отец всёж-ки скажу. Коли в избу пустить свинью, она своё поганое дело сделает. Всё вверх дном перевернёт, всё опрокинет. А и выгонишь, не сразу порядок наведёшь. Так и в жизни, Степан. Мотри. Не пущай свинью в душу. Семья – дело святое. А с этим шутки плохи. Мотри, Степан… Дядя сидит явно недовольный и всё отворачивается от дедушки. И когда отворачивается, рот его кривит нехорошая улыбка. В лесу ветра нет и на поляне очень жарко. Звонко-оглушительно стрекочут кузнечики, поют птицы, стучит в отдалении дятел. Пока навивают воз, мы собираем конопатые ягоды луговой земляники, пресной, хрустящей на зубах, как песок. Потом забираемся наверх, на дрожащую громаду пахучего сена и, уцепившись за гнёт, смотрим по сторонам. На возу так высоко, что ступни ломит от страха.* * *
Дедушка только что вычистил самовар и, сидя на крылечке, поглаживая сияющее на полуденном солнце самоварное брюхо, рассуждает вслух: – Самовар – незаменимая вещь в избе. Ишь как блестит! Ну, блести, блести, милок… Вот, к примеру, на морозе назябнешь, пришёл домой – а на столе самовар сипит. Хошь руки об ёво грей, хошь выпей весь. А после бани? После бани без самовара тоска. А вода в ём от берёзовых углев, знаете какая лёгкая? Пьёшь и всё хочется. Мы с Сашком не возражаем. За самоваром бабушка нас одаривает колотым сахаром, а по праздникам – «подушечками» и «печенюшками». Когда дедушка уносит самовар, мы идём за дом, где в специально вырытой квадратной, на штык глубиной канаве тётушка месит ногами грязь – глину, солому и песок. Потом накладывает месиво в ведро и кидает рукой на плетёеную из тальника стену хлева. Брызги отлетают мне в лицо, прилипают и тут же засыхают щекочущими коростами. Появляется дядя. – Помочь? – спрашивает он, весело-виновато бегая туда-сюда глазами. Хочет отнять у тётушки ведро, она со всей силы дёргает его на себя, оступается и чуть не падает. – Чё цеплясся? – кричит она, раскрасневшись. – Ишь вцепился клешнями-то, как в своё! – А то – чужое… – ненастойчиво возражает дядя. – Сказала бы я тебе, да дети рядом! Дядя будто только теперь замечает нас. – Это откуда взялось? А ну марш отсель! Марш, кому говорю? Мы удаляемся с повёрнутыми назад головами.* * *
– Ну и посол в оголот к бауски под юбку! – говорит с презрением Сашок, и я соглашаюсь. По дороге братец уверяет меня, что мёд там хоть ложкой черпай. – Я узэ, навелна, целое ведло созлал! – говорит он и подтягивает штаны. Сползают они у него вовсе не оттого, что широки, а оттого, что живот у него постоянно то надувается, то опадает, угадать невозможно. Ест же он всё подряд, без разбору. И всякий раз, похлопывая себя по животу, приговаривает: «В лусском пузе всё сгниёт!» И, по словам бабушки, ни одна холера его не берёт. – А если он нас в свиней превратит? Я боюсь не столько пчёл (я ещё не знаю, что они жалят), сколько колдовских чар Ивана Зыбина, на пасеку которого мы направляемся есть мёд. – А клест на сто? – храбрится Сашок. – Мы яво клестом, он и сдохнет, как сильвяк! Ульи на задах, у плетня, заросшего с нашей стороны репейником, конским щавелём, крапивой, лебедой, беленой. Кое-как минуем ферму, извозившись попутно в навозе, и пробираемся через бурьян к огороду. Какая-то пчёлка проносится мимо, потом ещё одна и ещёе. Добравшись до плетня, я слышу мерное гудение. И тут разом кончается геройство моего братца. Он хватается за голову и, отмахиваясь руками, с визгом кидается назад. Пчёлы за ним. Я приседаю в надежде, что беда минёт стороной, но тут словно иглой колют мне под правый глаз. Пчела отрывается и начинает тяжело подыматься. Я вскрикиваю от боли и бегу следом за братом. Пчёлы носятся над нами, бьют в голову, в шею, путаются в волосах, жалят. Если бы не высокий бурьян, нам пришлось бы туго. Домой возвращаемся с воем. Голова моя становится деревянной, словно кто сдавливает её со всех сторон. Глаз совсем заплыл, щёку тянет вниз и, как что-то прилепленное, она трясётся при ходьбе. Изверга тут же наказывают, а меня стыдят: – А ежели он тебе в печь велит лезть, полезешь? – Не-е, – реву я, – в печь не полезу-у… – И на том спасибо, – говорит дедушка. – Поди, жала выну.* * *
Двое нас в комнате – я и Светланка. Почему мы вдвоём и никого больше нет, не знаю. Нам скучно, мы уже во всё переиграли и не знаем, во что бы ещё поиграть. – В жениха и невесту давай играть? – предлагает Светланка. – Как? – Эх, очень даже абныкнавенна. Ты будешь жених, а я невеста, и мы поженимся. – Как? – Эх, очень даже абныкнавенна, как все люди женяца. – Как? – Очень даже абныкнавенна! Ты меня любишь? Ну говори, говори… – Я не знаю. – Как это ты не знаешь, ежели ты жених? Смешно даже. Ну? Говори. – Чего? – Я тебя люблю. – Я тебя люблю. – Ой, и я тебя тоже… Ну? Чего молчишь? Говори. – Чего? – Давай поженимся? Я повторяю. – Давай… Ну? Чего стоишь-то? – А чего делать-то? – Как это – чего? А целовать кто невесту будет? Дядя? – Я не хочу. – А зачем тогда говорил, что любишь? – У тебя рот шершавый. – А ты шибздик! – А ты дура! – А я тебя выше! – и она встаёт на цыпочки рядом со мной. Я тоже встаю на цыпочки. – Нет – я. Спор заканчивается борьбой. Я побарываю Светланку, оседлав, раскладываю её руки во всю ширину. Она почти не сопротивляется. – Ну, кто выше? Она начинает хлюпать носом. Я спрашиваю: «Ты чего, больно что ли?» – Всё, – отвечает она, продолжая хлюпать, – залетела. Я отпускаю её руки, оборачиваюсь на открытую форточку, но не вижу того, что «залетело». Подымаюсь. Светланка садится и, поджав худые ножки, объявляет: – Теперь меня точно убьют. Я не понимаю, что и куда залетело и почему её за это должны убить, и спрашиваю её об этом. – Эх, ты что, ля-ля что ли? Ни что залетело, а я залетела. И теперь у меня будет расти живот, и я рожу. А как мы не по-правдашному ещё жених и невеста, меня сразу убьют. Я хочу возразить, что детей «надувает ветром», но понимаю, что, верно, это не так, и смотрю на Светланку в ужасе. Не могу представить ее тощую фигурку с животом. Она встаёт и одёргивает платьице. – Тошнит штой-то… – говорит она поморщившись. – Может, съела чего? – Эх! Чай беременных со всего тошнит. Приходит её мама, и мы садимся за стол. Мне хочется рассказать, как мы здорово играли в жениха и невесту, но вспоминаю, как Светланка сказала, что её убьют, и молчу. Мы едим, и я всё посматриваю на «неправдашную невесту» в ожидании, когда её начнёт тошнить, как недавно дядю Степана с перепоя, но Светланка уплетает за обе щёки, и я прихожу к выводу, что она меня обманула, но и в то, что детей «надувает ветром», я уже больше не верю. Конец ознакомительного фрагмента. Full versionwww.rumvi.com
на обочине тротуара лежал кусок хлеба. Он был очень аппе — bearded-design
Помогите найти рассказ «кусок хлеба» Начало такое должно быть: на обочине тротуара лежал кусок хлеба. Он был очень аппе
- Кусок хлеба
На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб ещ дышит тплым ароматом печи. Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил раскапризничавшийся карапуз кто знает. Бойкий городской воробей нацелился отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару люди Чей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком и полетел он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги. Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил. — Грех!. . Грех-то!. . Большой грех! раздалось возле. Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, продублнный солнцем и годами. Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль и бережно понс к ближайшему газону: — Пусть хоть птички поклюют! Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чм? Может быть, он вспомнил голодное сво детство, когда даже на праздники мать подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье восемь ртов и всего две рабочие руки! А может быть, вспомнил убитого кулаками мальчишку из продотряда. Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду человека, труду хлебопашца, всегда нелгкому, всегда святому! Рукам его сильным и мозолистым, тем, что кормят нас! А. Нуйкин
- На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб ещ дышит тплым ароматом печи. Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил раскапризничавшийся карапуз кто знает. Бойкий городской воробей нацелился отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару люди Чей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком и полетел он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги. Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил. — Грех!. .Грех-то!. .Большой грех! раздалось возле. Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, продублнный солнцем и годами. Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль и бережно понс к ближайшему газону: — Пусть хоть птички поклюют! Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чм? Может быть, он вспомнил голодное сво детство, когда даже на праздники мать подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье восемь ртов и всего две рабочие руки! А может быть, вспомнил убитого кулаками мальчишку из продотряда. Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду человека, труду хлебопашца, всегда нелгкому, всегда святому! Рукам его сильным и мозолистым, тем, что кормят нас!
- А. Нуйкин «КУСОК ХЛЕБА»—найдшь в Google. Лучше, конечно, прочитать САМОЙ!
- На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб ещ дышит тплым ароматом печи. Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил раскапризничавшийся карапуз кто знает. Бойкий городской воробей нацелился отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару люди Чей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком и полетел он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги. Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил. — Грех!. . Грех-то!. . Большой грех! раздалось возле. Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, продублнный солнцем и годами. Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль и бережно понс к ближайшему газону: — Пусть хоть птички поклюют! Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чм? Может быть, он вспомнил голодное сво детство, когда даже на праздники мать подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье восемь ртов и всего две рабочие руки! А может быть, вспомнил убитого кулаками мальчишку из продотряда. Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду человека, труду хлебопашца, всегда нелгкому, всегда святому! Рукам его сильным и мозолистым, тем, что кормят нас! А. Нуйкин
- На обочине тротуара лежал кусок хлеба. С аппетитной корочкой, с румяным нежным изломом. Казалось, хлеб ещ дышит тплым ароматом печи.Может, выронил его торопившийся на завод рабочий, может, бросил раскапризничавшийся карапуз кто знает. Бойкий городской воробей нацелился отведать свежего хлебца и бочком, бочком запрыгал к нему, но откуда-то появились огромные пыльные сапоги, и воробью пришлось отлететь подальше. Потом через хлеб перешагнули туфельки на тоненьких, как два карандаша, каблучках, чуть не зацепив, прошаркали старушечьи чувяки. Шли и шли по тротуару людиЧей-то небольшой, хорошо начищенный ботинок поддел хлеб носком и полетел он, как футбольный мяч, крутясь в пыли, на самую середину дороги.Плотный веснушчатый мальчишка в спортивной курточке рассмеялся довольно удар что надо! Кусок хлеба полетел как раз туда, куда он метил.— Грех!.. Грех-то!.. Большой грех! раздалось возле.Мальчишка оглянулся. Недалеко стоял старик. Дряхлый старик, морщинистый, продублнный солнцем и годами.Поглядел старик налево, поглядел направо: не видать ли где машины. И мелкими шажками засеменил на середину дороги. Нагнулся, кряхтя, поднял хлеб, сдул с него пыль и бережно понс к ближайшему газону:— Пусть хоть птички поклюют!Положил на траву, а сам не отходит. Стоит. Задумался. О чм?Может быть, он вспомнил голодное сво детство, когда даже на праздники мать подсыпала в муку отрубей и коры. Нелегко дотянуть до следующего урожая, если в семье восемь ртов и всего две рабочие руки! А может быть, вспомнил убитого кулаками мальчишку из продотряда.Можно не сомневаться: этот человек видел хлеб не только на прилавках магазинов. И не копейке, которую стоит тот кусок, поклонился он, поднимая хлеб с асфальта. Труду человека, труду хлебопашца, всегда нелгкому, всегда святому! Рукам его сильным и мозолистым, тем, что кормят нас!
Внимание, только СЕГОДНЯ!
bearded-design.ru
Кусок хлеба - Рассказы - Жанры - Читательский клуб
Описание
Война. Страшная бездушная машина смерти. Она, прокладывает свой путь по судьбам людей,наций. Не щадит никого.Ни детей,ни женщин, ни стариков. У нее нет сердца, она давно подружилась со смертью. Стала ее компаньоном, и нет ничего ужаснее этого союза.Лето 1943 г. Немцы заняли нашу деревню. Кто успел сбежать, остался жив. Кто не успел, с высоко поднятой головой, встретил свою смерть. В основном, это были старики, они не хотели бросать свои дома. Наша семья, состоящая из меня, мамы и младшей сестренки Насти, скрывалась в лесу. Вместе с матерью, мы вырыли в земле нору и замаскировали его лапником, это стало нашим жилищем. Однажды при очередной вылазке, я встретил Кольку. Он был пронырливым парнем, правда сирота круглый. Мать умерла при родах, а отца убили на фронте.Оставался дед, но и тот недавно пал от рук фашистов. Но, Колька никогда не показывал, как ему плохо на душе.Он всегда шутил, и храбрился, что когда вырастит перебьет всех фашистских тараканов, чтобы в его родной стране всегда был мир. Ох, и мечтатель же ты,- укоризненно посмотрел я на него. Ничего и не мечтатель,- возмутился Колька. При этом он начинал забавно хмуриться, и я переставал на него злиться. Колька у нас, был своего рода разведчиком. Обладая некрупным телосложением, он бесшумно передвигался по местности, и высматривал, что делают фашисты.Вот еще бы их понимать, как то досадовал он, тогда можно было бы узнать, что они собираются предпринимать. По его словам, немцы в деревне обосновались основательно. Решили гады, штаб здесь организовать. Каждые три дня, в деревню приезжал небольшой грузовик.Он привозил провизию и оружие. А через неделю после их появления, над деревней, стал распространяться запах свежеиспеченного хлеба. Колька приходил из вылазок, словно пьяный. Настолько запах хлеба был дурманящим и вкусным. Что говорить, мы проклинали этих тварей, они ели хлеб и не только, а мы довольствовались тем, что росло в лесу, но мы не жаловались. Летом нам жилось легче. А вот зимы, мы ждали со страхом. Мало кому, удавалось прожить ее в божеских условиях. И когда она проходила, мы пожинали ее мрачные плоды. Собирали кровавый урожай, из тел умерших. Вовка! Вовка,- кричал бегущий навстречу Коля. Чего ты орешь,-осадил я его. Хочешь чтобы нас вычислили? Нет, - как можно тише проговорил мой друг. Я нашел его. Кого? Амбар, где они хранят буханочки,- он облизнул потрескавшиеся губы. И что? Как что! Надо слямзить пару буханок! Они даже не заметят, там их целая гора. Они составлены друг на друга,такие красивые с глянцевой поджаристой корочкой. Он сглотнул скопившиеся во рту слюни. Нет, это опасная затея! Если все хорошенько продумать, то можно спокойно все проделать,- стал убеждать меня Колька. За то, ты принесешь своим хлеба, представь как они обрадуются. Я на мгновение представил, как мои мама и сестренка трясущимися руками отламывают от буханки драгоценный кусок, и со слезами радости вдыхают его аромат. Я подумаю,-ответил я своему товарищу. Думай,-согласился он. Только думай до завтрашнего утра. Договорились? Да. В этот вечер, я вернулся в землянку с пустыми руками, мне было очень стыдно перед родными.Я опустив глаза, прошел к небольшому самодельному очагу, и сел около него. Мать опустилась рядом со мной. Ее рука с грубыми мозолями, легла на мое плечо. Ничего Вова,- тихим ласковым голосом промолвила она. Завтра будет лучше. Война не вечна, она кончится и мы снова заживем, как и прежде. А пока, придется чем то жертвовать, такова цена мира. Она погладила меня по голове и отошла к сестренке. Был бы здесь отец, думал я,он бы отважился на поход в амбар.Он бы принес нам хлеба,чего бы ему это не стоило. Но отца нет, а значит я вместо него. В ту ночь я решил, что во что бы то не стало хлеб мои родные поедят. Утром следующего дня, Колька пришел к нашей землянке и жестом поманил за собой. Поцеловав маму и сестру, я побежал за ним. - Ну что? - Я согласен! Вот это ты молодец,- похвалил меня Николай. Наша вылазка должна была состояться поздним вечером, немцы в это время, собирались за три дома от амбара. Там они выпивали и курили свои немчурские сигареты. Говорил Колька. Мы подойдем к амбару с задней стороны, там одна доска плохо прибита.Она довольно широкая,и мы запросто протиснемся в щель, когда ее отломаем до конца. Но будет темень, а это потеря времени,- воскликнул я. - Да,но у меня есть свечка и спички,- важно заявил Коля. Берег, для такого вот случая. Я молча кивнул. До вечера, мы прятались в кустах рядом с амбаром. Из него время от времени, выходил молодой немец. Он таскал туда мешки с мукой. Когда последний занял свое законное место, он повесил на дверь амбара большой железный замок. Какой же дурак, подумали про себя мальчишки. Сегодня мы упрем ваши драгоценные буханки, а то вы совсем зажрались. Вовка переглянулся с Колькой и они понимающе друг другу улыбнулись. Колька задремал, и проспал до самого вечера. Когда луна взошла на небе, Вовка толкнул его. Он вскочил, и как сумасшедший, стал оглядывался по сторонам. Я потянул его за руку вниз, увидев меня он вздохнул с облегчением. Ну,что? Пошли?,- сказал я ему. Да,давай только осторожно,-согласился Колька. Короткими перебежками, мы достигли задней стены, доска и вправду была плохо прибита. По сути она держалась на двух гвоздях,один был сверху другой снизу. Мы стали расшатывать ее руками, через несколько минут она поддалась и отвалилась, образовав приличный проход.По ту сторону была темнота. Но, прежде чем зажечь свечу, мы залезли вовнутрь и приложили доску. Колька долго копался, не так то просто в кромешной тьме чиркнуть и зажечь спичку,но вот засветился заветный огонек. В руке у Кольки, был небольшой огарок свечи.Его хватит ненадолго. Поэтому, мы сразу подбежали к столу с хлебом.Колька не обманывал, хлеб был наложен горкой. От нее исходил запах нашей русской пшеницы, какое богатство! Наши глаза засверкали. Колька схватил самую ближнюю к нему буханку. Втянув всем своим нутром ее запах, он легонько лизнул ее бочок. Но опомнившись, быстро сунул ее под истрепанную рубашку. Я последовал его примеру, моей стала буханка с правого ряда, тоже с поджаристой корочкой. Еще недолго полюбовавшись, хлебным сокровищем, к которому хотели еще не раз вернуться,мы направились к выходу. Первым стал вылазить Колька, когда его нога ступила на землю в нее вцепилась дико оголодавшая собака, от неожиданности и боли он заорал. Толкнув его, я вылетел следом. Собака все еще была там. Мой взгляд метался по сторонам. Все это конец, такой крик можно услышать на любом расстоянии. Надо было срочно предпринимать меры. Рядом валялся булыжник, схватив его я подбежал к собаке, и стукнул ее по голове.Она взвизгнула и повалилась наземь. Колька сидел, и продолжал орать.Из раны на его ноге, текла кровь. Пару раз я отхлестал его по щекам, он удивленно уставился на меня, я резко поднял его на ноги. Ты сможешь идти?- спросил я его. Не знаю,- придя в себя сказал он. Вдалеке послышались шаги, я схватил Кольку за руку и мы побежали. Колька хоть и прихрамывал, но бежал исправно. Но радоваться было рано.Нас все таки заметили, и теперь за нами бежало около шести фашистов, вскоре один увидел нас и открыл огонь. Мы выберемся, подбадривал я себя. Но, я прекрасно понимал, что систематическое недоедание и голодание дадут о себе знать.Скоро мои силы куда то делись, я бежал все медленнее. Колька оказался выносливее, он не только бежал, но еще и тащил меня за собой. Когда я остановился, он испуганными глазами смотрел назад. Немец с ружьем приближался. Вовка миленький. Ну давай, мы должны бежать! Нет Колька я не могу. Можешь! Ты сильный! Не ври мне! Я смог пробежать еще с десяток метров. Раздался выстрел, и я с подкошенными ногами упал на землю. Колька подбежал ко мне, и попытался взвалить меня на себя. Но только запачкал рубашку моей кровью, она текла из моего живота.На какое то время, преследование остановилось. Все Коля,- твердо сказал я. Беги один.Боль накатывала волнами. Второй рукой, я вытащил буханку и отдал ему. Наказав передать моим родным. Коля спрятал ее там же под рубашкой, и обещал непременно доставить ее. Я улыбнулся, и сел около березы. Но Колька не уходил. Он достал свою буханку отломил от нее щедрый кусок ,и протянул мне. Не надо! Оставь его себе, мне он уже не пригодится. Нет, я хочу чтобы ты его взял,- со слезами на глазах сказал Колька. Положив кусок мне на колени, он скрылся в ближайших кустах. Прощай мой верный друг, прохрипел я вслух.Но, он уже не услышал. Прижав к себе кусок хлеба, я стал ждать своей смерти. И она пришла. Она шагала рядом с фашистом. Он вальяжно подошел ко мне, увидев в моей руке хлеб хотел его отобрать. Я из последних сил, укусил его за руку. Так кусают ядовитые змеи, когда чувствуют неминуемую гибель. Немецкая тварь отдернула руку. Через секунду, Вовы Крапивина не стало. Его сердце, было разорвано пулей беспощадной и бездушной войны. Немец засмеялся в лицо мертвого мальчика. Пнув его напоследок ногой, он напевая мелодию победного марша вернулся в свой штаб, доложить, что русский выродок, укравший буханку хлеба мертв. Через пару дней, тело Вовы найдут советские разведчики. Их поразит его поза. Он сидел прижав к развороченной грудине кусок хлеба. Тот был крепко зажат в его руке. Еще через пять дней, деревня будет освобождена от фашистских захватчиков, и ее жители хоронившиеся в лесах вернутся в свои дома, и будут есть тот самый хлеб, с поджаристой корочкой из нашей родной русской пшеницы.
soyuz-pisatelei.ru