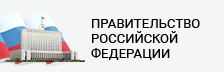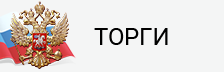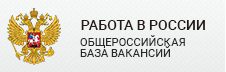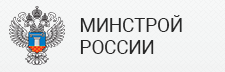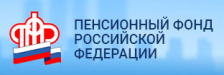Читать онлайн "Хождение по мукам" автора Толстой Олексій Миколайович - RuLit - Страница 12. Читать онлайн хождение по мукам
«Хождение по мукам» — Алексей Толстой
© А.Н. Толстой, наследники, 2011
© ООО «Издательство «АСТ», 2018
Книга перваяСестры
О Русская земля!
Слово о полку Игореве
1
Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолустного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.
Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и не радостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих – озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, – видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель – благонамеренный – прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее очарование.
Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору – худую бабу и простоволосую, – сильно испугался и затем кричал в кабаке: «Петербургу, мол, быть пусту», – за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно.
Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец – мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу.
И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург – лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой.
Как сон, прошли два столетия: Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью; бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни, с могучим сложением и черными от земли руками, и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь.
С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею петербургские призраки.
Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся, пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на рассвете, в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт – парад войскам перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. Так жил город.
В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, не виданной еще роскоши столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.
В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно – роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был, как заразой, поражен дворец.
И во дворец, до императорского трона, дошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой.
Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», – и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить.
То было время, когда любовь, чувства и добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.
Девушки скрывали свою невинность, супруги – верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения – признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.
Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго – предсмертного гимна, – он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники – новое и непонятное лезло из всех щелей.
mybook.ru
Читать онлайн "Хождение по мукам" автора Толстой Олексій Миколайович - RuLit
А. Н. Толстого прекрасно раскрывают подлинный смысл философии жизнеутверждения, противостоят всякого рода неверным предвзятым трактовкам этого понятия. Здесь вполне уместно привести слова А. М. Горького о подлинном смысле, богатстве и мужественности жизнеутверждения, проникающих трилогию «Хождение по мукам». В связи с узкими трактовками этого понятия он писал одному поэту: «А вы думаете, что единственное жизнеутверждающее чувство есть радость? Жизнеутверждающих чувств много: горе и преодоление горя, страдание и преодоление страдания, преодоление трагедии, преодоление смерти. В руках писателя много могучих сил, которыми он утверждает жизнь».
Развитие событий революции, опыт созидания социализма укрепили жизнеутверждающую основу творчества А. Н. Толстого. Его общее жизнелюбие обогатилось, когда писатель приобщился к революционному решению основных проблем эпохи, пришло в соответствие с поступательным движением истории, активно включилось в борьбу за социализм. Здесь уже нашла превосходное выражение общая выдающаяся особенность, советской литературы как литературы действенного сознательного утверждения новой жизни, идеалов социализма.
В А. Н. Толстом представлен тип художника, занятого разработкой больших общественных вопросов, принципиально отвергавшего мысль о писателе как иллюстраторе готовых положений. Всегда он исходил из убеждения, что художник должен быть исследователем общества, пролагателем новых путей в познании пути народа, души человеческой. Образно назвал он писателей «каменщиками крепости невидимой, крепости души народной».[10] В этих словах А. Н. Толстой замечательно выразил мысль о высокой патриотической миссии советской литературы, вместе с тем также превосходно определил пафос и смысл своей блестящей многолетней литературной деятельности.
В. Щербина
Книга первая
Сестры
О Русская земля!
(«Слово о полку Игореве»)
Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолустного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.
Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и не радостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих — озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, — видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель — благонамеренный — прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее очарование.
Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору — худую бабу и простоволосую, — сильно испугался и затем кричал в кабаке: «Петербургу, мол, быть пусту», — за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно.
Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец — мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу.
И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург — лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой.
вернутьсяА. Н. Толстой, Четверть века советской литературы, «Новый мир», 1942, № 11–12, стр. 206.
www.rulit.me
Читать онлайн "Хождение по мукам" автора Толстой Олексій Миколайович - RuLit
Сбоку, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик — историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин.
Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен.
Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым стриженым черепом, с молодым скуластым и желтым лицом — Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и когда спрашивали: откуда и кто такой? — знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия его была не Акундин, приехал он из-за границы и выступал неспроста.
Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихший зал, усмехнулся тонкой полоской губ и начал говорить.
В это время в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка, в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей.
Когда Акундин, стукнув по дубовой кафедре, воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу», — девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель.
Акундин говорил:
— …А вы все еще грезите туманными снами о царствии божием на земле. А он, несмотря на все ваши усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как валаамова ослица? Да, он проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадильниц, — народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верю. Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит. Здесь, в Петербурге, в этом великолепном зале, выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Боюсь, как бы эта забава не окончилась большой кровью…
Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса:
— Пускай говорит!
— Безобразие закрывать человеку рот!
— Это издевательство!
— Тише вы, там, сзади!
— Сами вы тише!
Акундин продолжал:
— …Русский мужик — точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом, покуда не лишат его наконец когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса: ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов, и народ, о котором вы ничего не хотите знать… Мы здесь даже и не критикуем вас по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды — человеческой фантазии. Нет. Мы говорим: спасайтесь, покуда не поздно. Ибо ваши идеи и ваши сокровища будут без сожаления выброшены в мусорный ящик истории…
Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное было иное, о чем эти люди не говорили…
За зеленым столом в это время появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком черном сюртуке: худое матовое лицо, брови дугами, под ними, в тенях, — огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала.
www.rulit.me
Читать онлайн "Хождение по мукам" автора Толстой Олексій Миколайович - RuLit
Даша сейчас же опустилась у ее ног.
— Так, может быть, это неправда? Катя, родная, милая, красивая моя сестра, скажи, — ведь это все неправда? — И Даша быстрыми поцелуями касалась Катиной нежной, пахнущей духами руки с синеватыми, как ручейки, жилками.
— Ну конечно, неправда, — ответила Екатерина Дмитриевна, устало закрывая глаза, — а ты и плакать сейчас же. Завтра глаза будут красные, носик распухнет.
Она приподняла Дашу и надолго прижалась губами к ее волосам.
— Слушай, я дура! — прошептала Даша в ее грудь.
В это время громкий и отчетливый голос Николая Ивановича проговорил за дверью кабинета:
— Она лжет!
Сестры быстро обернулись, но дверь была затворена. Екатерина Дмитриевна сказала:
— Иди-ка ты спать, ребенок. А я пойду выяснять отношения. Вот удовольствие, в самом деле, — едва на ногах стою.
Она проводила Дашу до ее комнаты, рассеянно поцеловала, потом вернулась в столовую, где захватила сумочку, поправила гребень и тихо, пальцем, постучала в дверь кабинета:
— Николай, отвори, пожалуйста.
На это ничего не ответили. Было зловещее молчание, затем фыркнул нос, повернули ключ, и Екатерина Дмитриевна, войдя, увидела широкую спину мужа, который, не оборачиваясь, шел к столу, сел в кожаное кресло, взял слоновой кости нож и резко провел им вдоль разгиба книги (роман Вассермана «Сорокалетний мужчина»).
Все это делалось так, будто Екатерины Дмитриевны в комнате нет.
Она села на диван, одернула юбку на ногах и, спрятав носовой платочек в сумку, щелкнула замком. При этом у Николая Ивановича вздрогнул клок волос на макушке.
— Я не понимаю только одного, — сказала она, — ты волен думать все, что тебе угодно, но прошу Дашу в свои настроения не посвящать.
Тогда он живо повернулся в кресле, вытянул шею и бороду и проговорил, не разжимая зубов:
— У тебя хватает развязности называть это моим настроением?
— Не понимаю!
— Превосходно! Ты не понимаешь? Ну, а вести себя, как уличная женщина, кажется, очень понимаешь?
Екатерина Дмитриевна немного только раскрыла рот на эти слова. Глядя в побагровевшее до пота, обезображенное лицо мужа, она проговорила тихо:
— С каких пор, скажи, ты начал говорить со мной неуважительно?
— Покорнейше прошу извинить! Но другим тоном я разговаривать не умею. Одним словом, я желаю знать подробности.
— Какие подробности?
— Не лги мне в глаза.
— Ах, вот ты о чем. — Екатерина Дмитриевна закатила, как от последней усталости, большие глаза. — Давеча я тебе сказала что-то такое… Я и забыла совсем.
— Я хочу знать — с кем это произошло?
— А я не знаю.
— Еще раз прошу не лгать…
— А я не лгу. Охота тебе лгать. Ну, сказала. Мало ли что я говорю со зла. Сказала и забыла.
Во время этих слов лицо Николая Ивановича было как каменное, но сердце его нырнуло и задрожало от радости: «Слава богу, наврала на себя». Зато теперь можно было безопасно и шумно ничему не верить — отвести душу.
Он поднялся с кресла и, шагая по ковру, останавливаясь и разрезая воздух взмахами костяного ножа, заговорил о падении семьи, о растлении нравственности, о священных, ныне забытых обязанностях женщины — жены, матери своих детей, помощницы мужа. Он упрекал Екатерину Дмитриевну в душевной пустоте, в легкомысленной трате денег, заработанных кровью («не кровью, а трепанием языка», — поправила Екатерина Дмитриевна). Нет, больше кровью, — тратой нервов. Он попрекал ее беспорядочным подбором знакомых, беспорядком в доме, пристрастием к «этой идиотке», Великому Моголу, и даже «омерзительными картинами, от которых меня тошнит в вашей мещанской гостиной».
Словом, Николай Иванович отвел душу.
Был четвертый час утра. Когда муж охрип и замолчал, Екатерина Дмитриевна сказала:
— Ничего не может быть противнее толстого и истерического мужчины, — поднялась и ушла в спальню.
Но Николай Иванович теперь даже и не обиделся на эти слова. Медленно раздевшись, он повесил платье на спинку стула, завел часы и с легким вздохом влез в свежую постель, постланную на кожаном диване.
«Да, живем плохо. Надо перестроить всю жизнь. Нехорошо, нехорошо», — подумал он, раскрывая книгу, чтобы для успокоения почитать на сои грядущий. Но сейчас же опустил ее и прислушался. В доме было тихо. Кто-то высморкался, и от этого звука забилось сердце. «Плачет, — подумал он, — ай, ай, ай, кажется, я наговорил лишнего».
И когда он стал вспоминать весь разговор и то, как Катя сидела и слушала, ему стало ее жалко. Он приподнялся на локте, уже готовый вылезть из-под одеяла, но по всему телу поползла истома, точно от многодневной усталости, он уронил голову и уснул.
www.rulit.me
Читать онлайн "Хождение по мукам" автора Толстой Олексій Миколайович - RuLit
Затем, после очень долгого молчания, он с грохотом отодвинул стул и ушел в кабинет. «Застрелится», — подумала Даша. Но и этого не случилось. С острой и мгновенной жалостью она вспомнила, какая у него волосатая большая рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения, и Даша только повторяла: «Что же делать? Что делать?» В голове звенело, — все, все, все было изуродовано и разбито.
Из-за суконной занавески появилась Великий Могол с подносом, и Даша, взглянув на нее, вдруг поняла, что теперь никакого больше Великого Могола не будет. Слезы залили ей глаза, она крепко сжала зубы и выбежала в гостиную.
Здесь все до мелочей было с любовью расставлено и развешано Катиными руками. Но Катина душа ушла из этой комнаты, и все в ней стало диким и нежилым. Даша села на диван. Понемногу ее взгляд остановился на недавно купленной картине. И в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено.
Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей. Рот — сбоку, носа не было совсем, вместо него — треугольная дырка, голова — квадратная, и к ней приклеена тряпка — настоящая материя. Ноги, как поленья — на шарнирах. В руке цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное было угол, в котором она сидела раскорякой, — глухой и коричневый. Картина называлась «Любовь». Катя называла ее современной Венерой.
«Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой. Она сама теперь такая же — с цветком, в углу». Даша легла лицом в подушку и, кусая ее, чтобы не кричать, заплакала. Некоторое время спустя в гостиной появился Николай Иванович. Расставив ноги, сердито зачиркал зажигательницей, подошел к роялю и стал тыкать в клавиши. Неожиданно вышел — «чижик».
Даша похолодела. Николай Иванович хлопнул крышкой и сказал:
— Этого надо было ожидать.
Даша несколько раз про себя повторила эту фразу, стараясь понять, что она означает. Внезапно в прихожей раздался резкий звонок. Николай Иванович взялся за бороду, но, произнеся сдавленным голосом: «О-о-о!» — ничего не сделал и быстро ушел в кабинет. По коридору простукала, как копытами, Великий Могол. Даша соскочила с дивана, — в глазах было темно, так билось сердце, — и выбежала в прихожую.
Там неловкими от холода пальцами Екатерина Дмитриевна развязывала лиловые ленты мехового капора и морщила носик.
Сестре она подставила холодную розовую щеку для поцелуя, но, когда ее никто не поцеловал, тряхнула головой, сбрасывая капор, и пристально серыми глазами взглянула на сестру.
— У вас что-нибудь произошло? Вы поссорились? — спросила она низким, грудным, всегда таким очаровательно милым голосом.
Даша стала глядеть на кожаные калоши Николая Ивановича, они назывались в доме «самоходами» и сейчас стояли сиротски.
У нее дрожал подбородок.
— Нет, ничего не произошло, просто я так.
Екатерина Дмитриевна медленно расстегнула большие пуговицы беличьей шубки, движением голых плеч освободилась от нее, и теперь была вся теплая, нежная и усталая. Расстегивая гамаши, она низко наклонилась, говоря:
— Понимаешь, покуда нашла автомобиль, промочила ноги.
Тогда Даша, продолжая глядеть на калоши Николая Ивановича, спросила сурово:
— Катя, где ты была?
— На литературном ужине, моя милая, в честь, ей-богу, даже не знаю кого. Все то же самое. Устала до смерти и хочу спать.
И она пошла в столовую. Там, бросив на скатерть кожаную сумку и вытирая платком носик, спросила:
— Кто это нащипал цветов? А где Николай Иванович, спит?
Даша была сбита с толку: сестра ни с какой стороны не походила на окаянную бабу и была не только не чужая, а чем-то особенно сегодня близкая, так бы ее всю и погладила.
Но все же с огромным присутствием духа, царапая ногтем скатерть в том именно месте, где полчаса тому назад Николай Иванович ел яичницу, Даша сказала:
— Катя!
— Что, миленький?
— Я все знаю.
— Что ты знаешь? Что случилось, ради бога?
Екатерина Дмитриевна села к столу, коснувшись коленями Дашиных ног, и с любопытством глядела на нее снизу вверх.
Даша сказала:
— Николай Иванович мне все открыл.
И не видела, какое было лицо у сестры, что с ней происходило.
После молчания, такого долгого, что можно было умереть, Екатерина Дмитриевна проговорила злым голосом:
— Что же такое потрясающее сообщил про меня Николай Иванович?
— Катя, ты знаешь.
— Нет, не знаю.
Она сказала это «не знаю» так, словно получился ледяной шарик.
www.rulit.me
Читать онлайн "Хождение по мукам" автора Толстой Олексій Миколайович - RuLit
«Вот ловкая русская девушка с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу».
Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше — был он совсем сухой, — закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду.
Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз покосилась в сторону англичанина, — он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинув соломенную шляпу на затылок, и, не оборачиваясь, глядел на море.
Ночью, лежа в постели, Даша все это припомнила, ясно видела себя, прыгавшую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от уязвленного самолюбия и еще чего-то, бывшего сильнее ее самой.
С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала:
— Даша, мистер Беильс о тебе справляется каждый день, — почему ты не играешь?
Даша раскрыла рот — до того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать «глупых сплетен», что никакого мистера Беильса не знает и знать не хочет, и он вообще ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в «этот дурацкий теннис». Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячею смолою сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину: влюблена в англичанина и отчаянно несчастна.
Так, понемногу поднимая голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды — затягиваться зимою в корсет и суконное платье.
Две недели продолжалась ее самолюбивая влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете.
А потом появилась около него высокая, худая девушка, одетая в белую фланель, — англичанка, его невеста, — и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни.
На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все. Даша чувствовала теперь, как тот — второй человек — точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая — и легкая и свежая, как прежде, — но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза, замечательные глаза, посмотришь в них — голова закружится.
В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую квартиру на Пантелеймоновской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы на суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в «Самарканд», к цыганам. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах двадцать три фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена.
Даше некогда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу: утром — лекции, в четыре — прогулка с сестрой, вечером — театры, концерты, ужины, люди — ни минуты побыть в тишине.
В один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофе.
К нему подсели знатоки литературы — два присяжных поверенных, но он, глядя на хозяйку длинным, странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства вообще никакого нет, а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке.
«Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло, — и люди и искусство. А Россия — падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем пиру. А те, кто пишет стихи, все будут в аду».
Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его розовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер.
Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов, не слушая их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал:
www.rulit.me
Читать онлайн "Хождение по мукам" автора Толстой Олексій Миколайович - RuLit
Движение истории, развитие революции и гражданской войны, горький жизненный опыт раскрыли Рощину узость его привычного представления о Родине, навсегда слили его с жизнью народа. Суровые уроки борьбы привели Рощина к выводу: «Оказалось, родина это не то, родина — это другие… Это они. Они — трудовой народ, начавший с оружием в руках творить свое будущее».
Поразительно правдиво, с убедительнейшей достоверностью в трилогии воспроизведен драматизм столкновения иллюзий героев с суровой действительностью грозных лет революции и гражданской войны, преображение в жестоких социальных конфликтах всего строя их чувств. Непосредственно втянутые в водоворот классовой борьбы, чувства дружбы, любви, гуманности, стремление к добру преобразуются, пополняются новым содержанием. Органическое вхождение истории в души не только преображает сознание, но и вносит новые черты в общечеловеческие чувства и стремления.
Развитие сознания героев трилогии — Телегина, Рощина, Кати и Даши — проходит в мучительных размышлениях, во внутренних противоречиях и конфликтах. Преодоление отживших представлений под влиянием действительности у них зачастую проходит в острой внутренней борьбе, в столкновениях противоречивых точек зрения. Первоисточником таких переживаний героев А. Н. Толстого всегда служат реальные факты, неумолимо разбивающие их прежние хрупкие камерные представления и мечты.
Революция затронула все стороны человеческого существования. Наивные мечты Кати и Даши о счастье сбываются не скоро. На протяжении многих лет личная жизнь их складывается неудачно. Не скоро они находят место в обществе. Порой представлялось, что все рушится, и тогда наступали минуты отчаяния, но опять воля к жизни брала верх и заставляла Катю и Дашу — слабых и беззащитных — пробивать себе дорогу. Часто кажутся они жалкими листьями, оторванными от дерева — Родины, дома, семьи, — уносимыми вихрем страшных и непонятных им событий. Однако искренность и стремление к правде побеждают все, и они отыскивают выход из самых безнадежных на первый взгляд положений.
Как показала жизнь, иллюзорной оказывается мечта героев об изолированном от общества маленьком личном счастье, счастье вопреки всем войнам, революциям, вопреки всем потрясениям человечества. Маленькое замкнутое благополучие не могло сохраниться в грандиозной революционной ломке общественных отношений, противостоять историческим бурям. Личное счастье Телегина и Даши, Рощина и Кати оказывается под ударом. Они принуждены на длительное время расстаться. Лишь найдя свою дорогу в жизни, находят они и свою любовь.
Чувства героев трилогии обогащаются, становятся глубже и сильнее. Раньше любовь заставляла их изолироваться от людей, бояться бурь и волнений казавшейся им такой беспощадной и неприветливой жизни. Теперь их чувства окрылены уверенностью в будущем.
Личное в представлении героев трилогии уже не противостоит общественному, а, напротив, личное — любовь — еще более расцветает, озаренное патриотическим чувством граждан свободной страны.
Сила таланта А. Н. Толстого во всей полноте сказалась и в широких эпических картинах, и в воспроизведении тончайших интимных переживаний. История любви Телегина и Даши проникнута подлинной поэтичностью. Писатель заставляет нас живо ощущать тонкость и сложность самых сокровенных человеческих чувств. По глубине передачи духовной жизни героев роман Толстого принадлежит к числу лучших произведений советской литературы. А. Н. Толстой, раскрывая несостоятельность попыток своих героев-интеллигентов в суровую революционную эпоху укрыться от бурь истории, замкнуться в пределах своего скромного личного счастья, показывает органическую взаимосвязь человека со временем. Драматическое развитие биографий основных героев трилогии наглядно, с тонким проникновением в глубины человеческой души раскрывает сложный процесс приобщения человека к истории, раскрепощения тем самым его духовных возможностей. Жизненный опыт Телегина, Рощина, Даши и Кати зримо свидетельствует о том, что именно включение истории в душу человека обогащает духовное содержание личности, дает возможность наиболее полно выявлять индивидуальные свойства.
Трилогию «Хождение по мукам» можно воспринять как своеобразный творческий синтез на основе нового опыта революционной эпохи всех прежних исканий автора, как итог его художественной биографии. Совершенно новое решение находят проблемы, всю жизнь волновавшие писателя. А. Н. Толстой и прежде никогда не разделял декадентских воззрений, утверждавших обреченность человека, его неспособность к духовному развитию и совершенствованию. Тема духовного обновления, очищения, возвышения человека — одна из основных в его дореволюционном творчестве. Если писатели-декаденты концентрировали внимание на падении, темных сторонах, болезненных патологических инстинктах личности, то Толстому присуще стремление к воплощению внутреннего возрождения, нравственного очищения героев. Тем не менее изображение духовного обновления человека в дореволюционных произведениях писателя носило характер отвлеченного, замкнутого, внутреннего самоусовершенствования. Постоянная для А. Н. Толстого тема совершающегося духовного прогресса личности получает в трилогии новое, исторически обоснованное освещение. Приобщение писателя к идеям социализма, художественное воплощение опыта революции и гражданской войны дали прочную, жизненную почву для всестороннего обновления, преображения и совершенствования героев. Их жизнь проникнута подлинно великими, возвышенными, в то же время реальными идеалами, одухотворяется великими целями.
www.rulit.me
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Пример видео 3 Пример видео 3 |  Пример видео 2 Пример видео 2 |  Пример видео 6 Пример видео 6 |  Пример видео 1 Пример видео 1 |  Пример видео 5 Пример видео 5 |  Пример видео 4 Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»