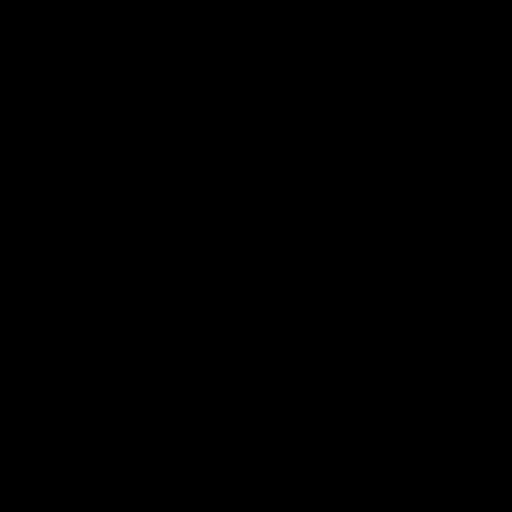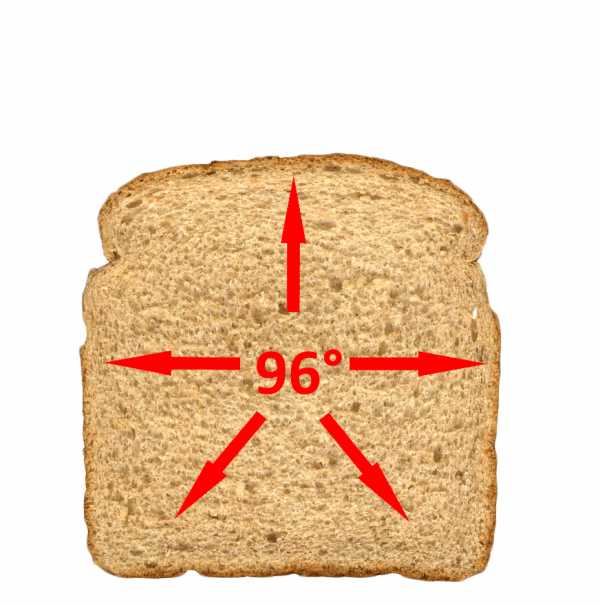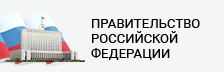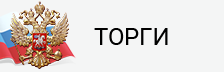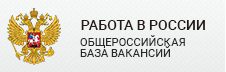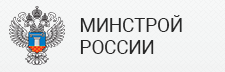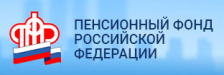Луговской Николай (1937-1990). Текст материнский хлеб
Материнский сладкий хлеб. «Юность». Избранное. X. 1955-1965
Материнский сладкий хлеб
Из дому выходя или возвращаясь домой, каждый день вижу я людей с хлебом. Кто несет его в корзинке, кто в плетеной сумочке, вместе с морковью, картошкой и другими овощами; попадаются и другие, что несут свой насущный, небрежно завернув в газету, и такие, что прижимают его рукой к ребрам, за которыми делает свою тяжелую работу сердце, несут, словно вечно новую, полную неумирающей свежести книгу жизни, которую люди не устают читать, снова и снова перелистывая ее страницы, окропленные слезами и кровью.
Нина Дмитриевна жаловалась на сердце. Не то заходилось оно у нее, не то замирало. Случалось это внезапно, без всяких видимых оснований, и сотрудницы библиотеки, в которой Нина Дмитриевна работала, видели, как она хваталась рукой за стеллаж и прижималась лбом к книжкам или опускалась на стул, бледная, с широко раскрытыми, не испуганными, а словно удивленными глазами, и так сидела, прислушиваясь к той таинственной, непонятной и грозной катастрофе, которая совершалась в ней и каждый раз могла оказаться последней. Наконец она вздыхала с облегчением: утомленное сердце, словно обрадовавшись, что не остановилось, начинало ускоренно биться, горячо гнало кровь, занемевшие руки отходили, побледневшее лицо покрывалось румянцем.
Нина Дмитриевна вставала, поправляла прическу и снова ходила между стеллажами, отыскивала книги и несла их к столу выдачи, где недовольные десятиклассники и студенты потихоньку возмущались задержкой и жаловались на непорядки в библиотеке.
Заведующая Калерия Ивановна, сухая и суровая особа в старомодных очках, возраст которой нельзя было определить, поджимая тонкие синеватые губы, часто советовала Нине Дмитриевне, так выговаривая слова, словно забивала мелкие гвоздики в стену:
— Вам надо лечиться, Нина Дмитриевна. Почему вы не поднимаете вопрос перед месткомом о путевке на курорт? Обязанность месткома — помогать членам профсоюза.
Муж Калерии Ивановны работал на ответственной должности. Они каждый год ездили в Ессентуки или Трускавец, потому что оба жаловались на нарушение обмена веществ, из-за чего Калерия Ивановна была тонкая, как жердь, а муж ее — толстый, как печка.
Нина Дмитриевна испуганно вскидывала на заведующую красивые и еще совсем молодые карие глаза.
— Так я же здорова, Калерия Ивановна… И потом, это такая канитель, надо идти к врачам, бог знает, что они скажут. А Леля… На кого я брошу Лелю?
Леле, дочке Нины Дмитриевны, было девятнадцать лет, она училась в педагогическом институте, но мечтала стать артисткой и увлекалась спортом: то плаванием, то художественной гимнастикой, то теннисом… Она красиво декламировала на институтских вечерах стихи Есенина и Щипачева и чувствовала наслаждение, проходя по бульвару Шевченко в белых туфлях и белой юбке, с теннисной ракеткой в руке. Леля хорошо училась, несмотря на то, что художественная самодеятельность и спорт отнимали у нее много времени. Домой девушка прибегала только поздно вечером, голодная, веселая и счастливая, бурно обнимала и целовала Нину Дмитриевну, которую в самом деле до беспамятства любила, надевала свой цветастый старенький халатик, уже маловатый на нее, и садилась за стол, где давно ждал ее ранний ужин или поздний обед, называйте это как угодно.
Они любили друг друга, и трудно сказать, кто больше, Для Нины Дмитриевны не существовало в мире никого, кроме Лели. В дочери была вся жизнь этой тихой, уже немолодой, но еще красивой женщины. Она потеряла мужа в первые недели войны. Извещение пришло зимой в отдаленный колхоз за Красноярском, где она очутилась с двухлетней Лелей. Нина Дмитриевна отгребала снег от порога, неумело орудуя большой деревянной лопатой, когда подошла Аникеевна — председательница колхоза, могучая женщина с железными руками и постоянным выражением девического смущения на лице. Аникеевна уже потеряла на войне мужа и двух сыновей. Теперь она открывала все солдатские письма, что приходили в колхоз, на себя перенимая все горе и все слезы молодых и немолодых, местных и эвакуированных солдаток.
— Дай-ка мне лопату, Митриевна, — сказала Аникеевна, — не для твоих рук эта работа… Перетерпи. Война кончится, будешь у нас библиотекаршей… По душе ты мне, я для тебя библиотеку расстараюсь на весь район!
— Ох, что вы, — как всегда испугалась Нина Дмитриевна, — я же киевская!.. Костя вернется с войны…
Костей звали мужа.
— Не вернется твой Костя. — Аникеевна бросила лопату в снег и заголосила, обнимая двадцатипятилетнюю вдову, как ребенка. — Не встанет он на белы ноженьки, подкосила его смерть во чистом поле, словно цветики весенние, словно колос в пору страдную…
Этот плач, что не притворялся песней, но вправду был тысячелетней поэзией женского горя, спас молодую женщину. Она молча плакала в объятиях Аникеевны, а потом они вдвоем сидели в рубленой горнице и Аникеевна читала ей солдатские письма к женам, скупые, суровые, полные советов по хозяйству, приветов родне — а еще поклон от высокого неба до сырой земли — и обещаний обязательно разбить немца. Аникеевна вела колхоз, держала в руках невесток и внуков — было их пятеро, мальчиков и девочек. Она ругала крепкими словами женщин в коровнике и на поле, вместе с ними голосила над безжалостными письмами с фронта, вместе с ними варила и пила самогонку. Все любили ее, она осталась в памяти Нины Дмитриевны примером деятельной любви и самоотверженной преданности.
Провожая библиотекаршу в Киев, Аникеевна дала ей в дорогу кружок замороженного молока и буханку похожего на черную землю хлеба.
— Не забывай моего насущного, когда будешь сладко есть! — Обняла ее на прощание и пошла от поезда, потому что у нее была не только эта забота.
Еще война не кончилась, когда Нина Дмитриевна с маленькой Лелей вернулась в Киев. Их дом на Прорезной сгорел, ей дали комнатку в двенадцать метров в конце улицы Дарвина. Она снова работала в холодном книгохранилище большой библиотеки, разбирала, записывала и расставляла по стеллажам книги. Ходить с работы домой надо было мимо Крытого рынка, на гору. Изо дня в день это становилось все тяжелее, но дома ее ждала брошенная на соседку Леля. Нина Дмитриевна спешила, не помня себя, и тут на крутой горе впервые остановилась, почувствовав, что камни уплывают у нее из-под ног. Но нельзя было остановиться: в руках у нее была плетеная сумочка, а в сумочке аккуратно завернутый пайковый хлеб. Насущный — теперь она иначе не называла его, — ежедневный хлеб для себя и для Лели. Как радовалась Леля этому хлебу, встречая ее на пороге комнаты, — крохотное существо на длинных тоненьких ножках! При взгляде на нее вспоминался Костя, юноша, который так недолго был ее мужем. У Лели были такие же, как у него, светлые волосы и такие же глаза, синеватые, в веселых искорках. Она так смешно выговаривала мамино название хлеба:
— Мамочка, ты принесла насушенного?
Купив Леле первую сладкую булочку, Нина Дмитриевна вспомнила Аникеевну и написала ей письмо. Ответ пришел через несколько месяцев, написанный большими круглыми буквами на листочке бумаги в клетку, сложенном треугольничком, как во время войны, — не то по привычке, не то потому, что конвертов за Красноярском еще не было. Письмо было, как от матери. «Если встретишь свое счастье, никому не отдавай, — писала Аникеевна, — а так ни с кем судьбы не связывай — вдовою жить лучше, чем за чертом замужем».
Встал в памяти зимний день, сугробы у порога, сама она в чужом тулупе и валенках, с письмом в руках и плач Аникеевны: «…подкосила его смерть в поле чистом, словно колос в пору страдную, отвеяло душу от белого тела, как зерно от мякинушки…»
Ходила с сотрудниками библиотеки разбирать кирпич на развалинах Крещатика, водила Лелю в кукольный театр, читала ей вечерами про Красную Шапочку и Козу-дерезу, ни о ком и ни о чем не думала, и вся улица Дарвина удивлялась, как это такая молодая и красивая, такая милая и веселая женщина живет одна, словно монашка, бьется ради насущного для своего ребенка, когда можно бы найти себе пару, а то и распаровать кого-нибудь и жить себе, как за каменной стеной. Не успела оглянуться, как Леля пошла в школу, не успела одуматься, как девочка стала подростком… И не успела заметить, как усталость подползла к сердцу, как все чаще стало оно то заходиться, то замирать. Всю себя отдавала Леле, всю неистраченную свою любовь, всю нежность верной и преданной души. И Леля любила ее, и не только любила — восхищалась, гордилась ею. Ведь это же была ее мама. Нельзя было ее не любить, не восхищаться, не гордиться мамой, которая каждый день приносила «насушенный», устроила такое красивое гнездышко из их двенадцатиметровой комнаты, умела из ничего сшить для нее чудесные юбочки и блузочки и так весело и серьезно разговаривала с ее знакомыми ребятами, что иной раз трудно было понять, ради кого они ходят на улицу Дарвина.
Нельзя сказать, что Леля выросла белоручкой. Она умела делать все, чему ее учила мама: убрать комнату, приготовить обед, выстирать себе блузку, — а коржики пекла даже лучше матери; только ей вечно было некогда: лекции, самодеятельность, спорт, а кроме того, нужно было не пропустить интересный фильм, сходить на концерт (одно время она очень увлекалась музыкой) и просто погулять над Днепром… Нина Дмитриевна не то что считала это нормальным, — она бы искренне удивилась, если б кто-нибудь сказал ей, что она слишком много сердца отдает Леле, что надо и себя пожалеть, что время идет и сил становится все меньше и меньше. Она не умела отмерять свою любовь, как в аптеке, и сердце свое отдавала сполна, не задумываясь, не жалея его. Один только раз за все эти долгие годы сердце ее несмело качнулось, заметалось беспокойно, как стрелка компаса во время магнитной бури, а потом выровнялось и снова стало показывать в одну сторону — на Лелю.
Сергей Павлович Клочко, биолог, писал докторскую диссертацию. Подменяя сотрудницу читального зала, молоденькую красивую Зою Семиренко, которая заболела воспалением легких, Нина Дмитриевна сразу обратила внимание на высокого, стройного и, если бы не седина на висках, совсем молодого ученого. Что-то будто толкнуло ее в грудь — так похож он был на Костю. Особенно, если закрыть глаза и слушать его гибкий, слегка иронический голос, можно подумать, что не было ни колхоза за Красноярском, ни Аникеевны, ни долгих лет одиночества в двенадцатиметровой комнате на улице Дарвина, что все время рядом с ней был честный, добрый человек, который понемногу мужал, потом стал седеть, но от этого стал еще ближе, еще роднее, ибо ничто так не сближает людей, как годы общего труда, общей радости и горя. Странно, глядя на него и ожидая, что он заговорит с ней, она все время думала о Косте, который не успел ни поседеть, ни стать Константином Петровичем, потому что совсем молодым скосила его смерть в чистом поле, как пшеничный колосочек… Думала, что если бы не было этого чистого поля, то и Костя мог бы вот так сидеть в читальном зале за столом под зеленым абажуром и листать страницы книг если не по биологии, то уж, верно, по истории архитектуры, которой увлекался. А может, строил бы Костя дома для людей, и в одном из них дали бы им квартиру из двух или трех комнат, с балконом, и был бы лифт, и ей не нужно было бы ходить на пятый этаж по крутой лестнице, неся с работы «насушенный» для Лели. Он, наверно, строил бы: в нем играла деятельная сила, не хватало ему спокойствия и терпения, необходимых для вдумчивого и серьезного исследователя.
Нина Дмитриевна ужаснулась, поняв, что совсем мало думала и вспоминала про Костю, пока не встретила Сергея Павловича. Костина фотография висела у нее в комнате на почетном месте, но, горько сознаться, давно уже стала только вещью, частью ее жилья, а не частью души. Теперь Костя возвращался из такой далекой дали и такие жгучие воспоминания будил в ней, что женщине становилось страшно за годы, которые прошли без него, а главное — за будущее, которое расстилалось перед ней голой пустыней: еще несколько лет — Леля окончит институт, выйдет замуж… А дальше что?
Сергей Павлович не говорил с ней. Один раз только спросил имя и отчество, но она поняла, что ее присутствие волнует его. Между ними уже существовала таинственная связь, незримая нить которой крепла с каждым днем. Странное дело, уже вся библиотека с сочувствием следила за развитием их отношений, хоть и отношений никаких еще не было; были только тревожные потаенные мысли Нины Дмитриевны, которыми она ни с кем не делилась, и молчаливое волнение Сергея Павловича, неизвестным образом угаданное людьми. Сергей Павлович работал в библиотеке по вечерам и сидел обычно до закрытия читального зала. Приходя, он издалека кланялся Нине Дмитриевне и садился на свое постоянное место с правой стороны за предпоследним столом у прохода. Там уже лежали книги, заказанные прошлым вечером. Он склонялся над ними, медленно листал страницы, делал выписки, иногда выходил покурить и ровно за десять минут до закрытия зала глазами искал Нину Дмитриевну, чтобы отдать ей заказ на завтра. Она уже ждала этого взгляда и подходила к Сергею Павловичу неуверенной, медленной походкой, словно преодолевая сопротивление, как пловец, что режет встречную волну. Только это сопротивление, эта волна, с которой ей приходилось бороться, были в ней самой; она ужасалась не тому, что ее властно тянет к Сергею Павловичу, нет, в этом было давно забытое молодое ощущение счастья; ее пугало то, что она думает о нем, как о Косте, а Костя давно уже истлел в чистом поле…
Задолго до закрытия читального зала, не заказав книг на завтра, Сергей Павлович поднялся и вышел. Нина Дмитриевна подумала, что он вышел покурить. Книги были аккуратно сложены и придвинуты к лампе. Она не могла справиться со своими мыслями, с неожиданной тревогой, которая охватила ее и закачала, как щепку на волнах. Ушел. Не позвал глазами, не кивнул на прощание седой мальчишеской головой. Что случилось? Ничего ведь и не могло случиться. Она прекрасно это понимала, просто человеку нужно быть раньше дома, а может, он идет сегодня на концерт, а может, еще что-то… Она же ничего не знает о его жизни. Нет никаких оснований волноваться. У нее так много работы… Надо сказать немолодому писателю с бесцветными глазами и остатками жидких волос на черепе, что книги о Богдане Хмельницком будут только завтра. А вот уже принесли старые польские журналы для черноватого скользкого музыковеда, который исследует историю любви Фредерика Шопена к Марии Водьзинской… Чем только не интересуются люди! Строительством водопроводов у древних римлян и аэронавтикой, паразитологией человека и основателем династии Великих Моголов, узбекским поэтом и авантюристом Бабуром!..
Нина Дмитриевна взяла в раздевалке свою плетеную сумочку, в которой лежали хлеб и овощи для завтрашнего борща. В прохладном высоком вестибюле было пусто. Улица дохнула ей в лицо теплым воздухом. Возле давно уже темного газетного киоска стоял Сергей Павлович. Она не удивилась и не испугалась, только сердце вдруг заспешило, словно кинулось ему навстречу, а потом споткнулось, охваченное медленной и долгой болью… Сергей Павлович вовремя поддержал ее, обняв за плечи. Она раскрыла глаза, провела ладонью по лбу, потом они молча шли под тополями вечернего бульвара, листья о чем-то шептали под ветром, и ей приходилось отдыхать на каждой скамейке. Он неумело нес сумку с овощами и хлебом в левой руке, а правой поддерживал ее за плечи и все время молчал. Они долго ждали такси на остановке у Крытого рынка. Перед ними в очереди стояли молодые застенчивые летчики и длинноногие говорливые девушки с модными прическами «конский хвост».
— Я дойду пешком, — вздохнула Нина Дмитриевна, — это со мной часто бывает…
Возле дома на улице Дарвина, прощаясь с ней, Сергей Павлович сказал:
— Вам нужно отдохнуть.
Это она и сама знала.
— Я хотел вам кое-что сказать…
Она быстрым испуганным движением бросила кончики пальцев на его большую, крепкую руку, схватила свою сумочку и пошла в подъезд.
— Завтра… — прошелестел его голос, когда она закрывала за собой тяжелые двери.
Может, это ей почудилось?
Ночью Леля вызвала «Скорую помощь». Растрепанная толстая врачиха, хватаясь рукой за грудь и разевая рот, как рыба на берегу, вломилась в их маленькую комнату и так загромоздила ее своим большим телом, что двум студентам-практикантам с кислородной подушкой и чемоданчиком с медикаментами не хватило в ней места. Они шепотом разговаривали с соседками в коридоре.
— Лежать, лежать и лежать, — похлопывая Нину Дмитриевну по голому плечу, быстро сыпала равнодушные слова врачиха, — лежать десять дней, как минимум, и только тогда вы будете практически здоровы, голубушка.
Она впрыснула Нине Дмитриевне кардиозол с атропином, дала подышать кислородом и, попрощавшись, понесла из комнаты свое большое астматическое тело.
Леля стояла все время с перепуганными глазами и, только когда студенты вынесли кислородную подушку, склонилась над матерью.
— Тебе же ничего, мамочка? Правда, ничего? Ты же не умираешь? — совсем по-детски шептала она, холодея от страха. — Завтра ты не пойдешь на работу. Завтра мы вызовем врача из поликлиники, он выпишет тебе бюллетень…
Завтра она не пойдет на работу. Завтра она будет лежать в постели, положив руки поверх одеяла и прислушиваясь к своему сердцу. Леля побежит в институт и, возвращаясь с лекций, сама принесет хлеб. Овощи есть, соседка купит двести граммов мяса в Крытом рынке и приготовит обед. Завтра она будет отдыхать, и послезавтра, и десять дней подряд… Но ведь он тоже сказал: «Завтра». Завтра вечером она должна с ним встретиться, завтра она все услышит, завтра ждет ее счастье.
Леля склоняется над матерью. Нина Дмитриевна беззвучно шевелит губами, слов нельзя разобрать, глаза закрыты, дыхание выравнивается, она окунается в сон, как в темный колодец, и сразу же раскрывает глаза.
Небо цвета барвинка плывет в квадрате промытого, чистого окна. Леля спит, свернувшись клубочком, в старом кресле. Что это было? Он был тут, рядом с ней, живой, молодой Костя, он стоял возле Лели, легко положив руку на плечо дочке, и глядел умными, немного печальными глазами, словно осуждая ее за то, что она осмелилась искать его юную красоту в поседелом возмужании другого… Нет, он не осуждал, ему было больно и страшно за дочку, что спит одетая в кресле, напуганная неожиданной болезнью матери, ее потускневшими глазами, руками, которые бессильно лежат поверх одеяла, — неутомимые, нежные, мудрые руки матери, рождающие для нее хлеб. Костя стоял молча, потом неожиданно улыбнулся и сказал: «Мне пора на лекции, ты же смотри, Нина, не бросай ребенка одного».
Она проснулась от удара в сердце. В барвинковом небе за окном, как воспоминание, проплыло маленькое полупрозрачное облачко и растаяло, словно потонуло в светлой бездне.
Ничего ей не будет. Врачи? Отдых? Глупости. Сердце выдержит. Надо идти в библиотеку, готовить книги, раскладывать их по столам и ждать вечера: она не сможет жить дальше, не услышав тех слов, которые должен сказать ей Сергей Павлович… Нина Дмитриевна медленно оделась, приготовила завтрак и разбудила Лелю. У девушки засветились глаза: мать ходит, ее неутомимые руки не лежат бессильно, а привычно и умело нарезают хлеб и намазывают его желтоватым слоем масла, как каждый день, как много дней и лет по утрам… Они вдвоем вышли из дому. Люди спешили на работу. Возле Крытого рынка с машин сгружали розово-белые воловьи туши, овощи, колхозницы гремели бидонами. Леля что-то щебетала. Нина Дмитриевна ничего не замечала и не слышала.
Первой, кого она встретила в библиотеке, была Зоя Семиренко: она выздоровела и вернулась в читальный зал. Нина Дмитриевна похолодела от неожиданной тоски. Зоя искренне поцеловала ее. Она была худенькая и хорошенькая, как ласточка, после болезни глаза ее особенно ярко блестели, да разве и была она в чем виновата? Нина Дмитриевна передала ей работу по читальному залу и пошла в свой закоулок, в неприветливое, всегда холодное книгохранилище, где между стеллажами проходили ее годы.
День был долгий, она успела все взвесить. Хорошо, что Зоя вернулась на работу именно сегодня. Хорошо, что пришлось уйти из читального зала, — так будет легче забыть…
Работы было много… Вечером Нина Дмитриевна вышла из библиотеки через черный ход и прошла сумеречным парком, где на аллеях молча прижимались друг к другу влюбленные.
Ночью ее забрала «Скорая помощь». Полтора месяца пролежала она в больнице. А когда вернулась в библиотеку, Зоя Семиренко сказала ей, что седой биолог дважды спрашивал про нее, а потом перестал ходить в читальный зал, возможно, окончил свою диссертацию, а может, куда-то уехал…
«Вот и хорошо», — вздохнула с облегчением Нина Дмитриевна, вспомнив почему-то Аникеевну и ее письмо: «Своего счастья никому не отдавай, но вдовой жить лучше, чем за чертом…» Кто знает, чем это могло стать? Чем это было? И было ли что-нибудь? Может, живя потаенной надеждой на счастье, она слишком легко и доверчиво откликнулась на еле уловимое движение чужого сердца, которое билось не для нее, может, она сама в мыслях спряла ту незримую нитку близости, что, казалось, уже соединяла их… Бывают же ошибки, тем более что они никогда и не разговаривали, и она не может ничего знать о нем, о его мыслях, не может думать, что он обманул ее надежды. А сама себя обманывать она не хочет, не будет: уже прошел тот возраст, когда можно жить выдуманным счастьем, надо прислать боль, приглушить ее — три капли валидола на кусочек сахара хорошо помогают в таких случаях.
Улыбаясь, Нина Дмитриевна осторожно вытерла уголком платочка глаза, чтобы не покраснели веки, и медленно пошла вдоль длинной стены стеллажей отыскивать нужные абонентам книжки…
…Калерия Ивановна вызвала ее к себе в кабинет и, поджимая тонкие синие губы, сказала коротко и резко, будто пряча доброе сердце за хрупкой скорлупой своей постоянной сухости и резкости:
— Вы идете в отпуск. Не хотите в санаторий, просто отдохните. Почему бы вам не поехать по Днепру? Подумайте, я подписываю приказ.
Нина Дмитриевна ухватилась за эту мысль — вниз по Днепру. Леля давно мечтала об этом путешествии. Вечером они уже вслух мечтали о белом пароходе. Через неделю кончается экзаменационная сессия у Лели.
Сезон только начинается. Пассажиров еще совсем мало. Они возьмут каюту первого класса.
— Мама, я хотела бы сшить себе широкую цветастую юбку и купить белую прозрачную блузку…
— Ну что ж, это можно, только тогда придется брать второй класс.
— А чем плохо во втором классе? Там четырехместные каюты, познакомимся с попутчиками, будет веселее. И в конце концов это только на ночь, а днем все время на воздухе, на палубе…
Леля обегала все магазины, выбирая цветастый материал на юбочку; прозрачную блузку не так легко было найти; зато в справочном бюро на речном вокзале она все разузнала: и какие пароходы ходят до Херсона, и где останавливаются, и сколько стоят на Днепрогэсе и в Новой Каховке… Нина Дмитриевна принесла из библиотеки карту, они разыскивали на ней пристани… Жаль, что в Каневе пароход так мало стоит, нельзя будет сходить на Тарасову гору, а так хотелось бы… Ну, ничего, они посмотрят с парохода или сделают, если можно, остановку на сутки. Там, кажется, есть гостиница… Нет, гостиница сгорела во время войны, ее до сих пор не отстроили. Ну, да они найдут, где переночевать…
— А правда, мама, мне чудесный материал попался, и такой дешевый! Можно будет купить еще красные бусы, длинную нитку, как теперь носят, — на Крещатике есть в магазине…
Пришел Лелин товарищ Виталий, мрачноватый парень с черным чубом. Леля покраснела.
— Ох, мамочка, я и забыла сказать, что мы с Виталием условились сегодня в кино…
Виталий хмуро усмехался и встряхивал чубом. Нина Дмитриевна из окна видела, как они вышли из подъезда, оглянулись и, взявшись за руки, пошли вниз, на Крещатик.
Ей все не нравилось в этом Виталии: и то, что он молчит, и что носит узкие зеленые брючки и песчаного цвета короткую курточку, и что черные волосы у него подстрижены, как у какого-то французского актера, а парню нужно думать о том, как он будет преподавать физику в сельской школе…
Она сидела у окна и шила юбочку для Лели, широкую цыганскую юбку из дешевого цветастого материала, и чувствовала себя счастливой. Если не найдется прозрачной блузки в магазине, она сама сошьет — будет не хуже. Правда, ей тяжело шить иголкой. Такая пустяковая работа, а так утомляет: наверно, оттого, что все время приходится делать однообразные движения рукой, — такой широкий подол, пока его обошьешь… Сумерки накрывали улицу Дарвина. Леля не возвращалась из кино. Должно быть, ей интересно с этим Виталием; тут ничего не поделаешь, она уже взрослая девушка, сама должна выбирать свое счастье.
Вдруг Нина Дмитриевна вспомнила, что за радостными разговорами о путешествии она забыла купить хлеба и Леле тоже не поручила зайти в булочную… Ну, что ж, это и лучше, она пройдется по Крещатику; булочная на углу возле памятника Ленину еще открыта, там всегда свежий, хороший хлеб, и именно такой, какой любит Леля… Она вышла из дому. Как разрослись деревья на этой уютной улице, и сколько домов построено! И на том фундаменте, что сохранился с довоенного времени, поднялся такой большой, красивый дом с магазинами — жаль, что они так рано закрываются. Нина Дмитриевна медленно шла вниз на Крещатик, ее знали на этой улице, и старшие и молодежь — все здоровались с ней, и даже в булочной ее, без очереди пустили в кассу.
— Как ваше здоровье? — вдруг спросила кассирша, взявшись за ручку кассы и не поворачивая ее.
— Спасибо, — ответила Нина Дмитриевна, — в воскресенье мы едем с дочкой пароходом по Днепру.
Кассирша выбила чек, касса лязгнула, зазвонила, словно сказала: «Счастливого пути!»
Нина Дмитриевна посидела на скамейке у памятника. Небо все ниже надвигалось на тополя, на фонари, на крыши; над городом пролетел самолет с тремя огнями; она вздохнула и поднялась…
Леля уже, наверно, вернулась, а она так запаздывает с этим хлебом. Хорошо, что Виталий в этом году оканчивает институт, получит назначение и куда-нибудь поедет, не пара он Леле, не нужны ей эти узенькие зеленые брючки и рыжие башмаки на толстой подошве… Ох, а что ж ей нужно? Откуда она знает, что нужно Леле? Счастье! Счастье, и больше ничего! Хоть в разбитых сапогах, хоть и босиком… А может, счастье ходит теперь на микропористой?
Ее счастье ходило в парусиновых туфлях, а потом надело кирзовые сапоги и гимнастерку, пошло в чистое поле и не вернулось… Голова даже кругом идет от этих мыслей, а хлеб сегодня почему-то такой тяжелый, что придется остановиться у Крытого рынка и отдохнуть…
Леля вернулась поздно. Они вышли из маленького, душного кинозала и по террасе над Крещатиком прошли на улицу Энгельса, сразу забыв про фильм, в котором стреляли из пушек, разрушали города, умирали под танками, думали о будущем… Кругом было столько красоты, деревья в Липках так тихо шелестели, дома дышали теплом, угасал свет в окнах, и только время от времени слышались медленные, тихие шаги поздних прохожих или звонко постукивали высокие тонкие каблучки счастливой девушки, которая спешила домой со свидания. Леле было весело, она без конца говорила про поездку по Днепру.
— Завтра уже нужно заказывать билеты, в субботу последний экзамен, — говорила Леля, вкладывая в эти слова столько радости и надежды, что они начинали звучать для нее песней, которой веришь всей душой.
Виталий поцеловал ее в подъезде, она легко вбежала на пятый этаж и, как всегда, позвонила дважды, энергичными, короткими звонками. Дверь сразу же открыла соседка. В коридоре почему-то было полно людей, они словно избегали ее взгляда. Леля пробежала в свою комнату и сразу же увидела мать на кровати, покрытую короткой простыней, из-под которой виднелись ноги в стоптанных, старых туфлях.
— Не плачь, Леля, не плачь, — заливалась слезами соседка, и голос ее звучал, словно из-за стеклянной стены. На столе посреди комнаты лежала плетеная сумочка с хлебом. Леля села возле матери, ничего еще до конца не понимая. Снова послышался звонок, кто-то пошел открывать, и в дверях появилась знакомая врачиха, больная астмой; она отбросила простыню с лица матери, подержала ее руку, прислонилась ухом к груди и, тяжело хватая открытым ртом воздух, села что-то писать. Ее ассистенты держали в коридоре ненужную кислородную подушку и чемоданчик с медикаментами.
Все, что совершалось потом, шло быстро и без Лелиного участия. Все сделали соседи и сотрудники из библиотеки. Они привезли гроб и венки, они же ехали на кладбище в серебряном похоронном автобусе. Калерия Ивановна, глядя поверх голов небольшой группы собравшихся возле могилы, произнесла речь, слова которой звучали, как удары небольшого молотка; упали комочки земли на гроб. Калерия Ивановна отошла в сторону, сняла очки и вдруг начала плакать. Леля озиралась беспомощно кругом, словно искала кого-то, но никого не было. Ее окружали чужие, полузнакомые люди, ей делалось страшно, и она не могла плакать. День был ясный, солнечный, на кладбище цвела акация, пели птицы, от их щебета заходилось сердце…
Соседки немного посидели у нее в комнате и разошлись. Смеркалось. На спинке стула висела недошитая цветастая юбочка, на столе лежала развернутая карта, над которой еще два дня тому назад они склонялись с матерью. Виталий не пришел. Небо в окне становилось из сиреневого темно-синим, блеснула первая звезда над крышей соседнего дома. Виталия не было на кладбище, когда комья земли с грохотом падали на гроб и исступленный щебет птиц отзывался в сердце напоминанием о жизни, о радости, которую так легко теряешь, о счастье, которое тонет в тяжелых слезах…
Леле захотелось есть. Она нашла плетеную сумочку и долго сидела в своей уютной комнате одна, обливая горькими слезами последний материнский хлеб.
Перевод с украинского А. Громовой.
librolife.ru
Цена хлеба | Открытый класс
Данные об автореАвтор(ы):
Хвостова Т. В.Место работы, должность:
г. о. Электросталь МОУ "Лицей №7" учитель начальных классов
Регион:
Московская область Характеристики урока (занятия)Уровень образования:
начальное общее образованиеЦелевая аудитория:
ВоспитательЦелевая аудитория:
Классный руководительЦелевая аудитория:
Педагог дополнительного образованияКласс(ы):
3 классКласс(ы):
4 классПредмет(ы):
Внеклассная работаЦель урока:
- Рассказать детям об истории хлебопечения.
- Воспитывать уважение к людям, которые добывают хлеб.
- Воспитывать бережное отношение к хлебу.
- Развивать внимание, логическое мышление детей.
Используемые учебники и учебные пособия:
не используются
Используемая методическая литература:
не используется
Используемое оборудование:
Предварительная подготовка: разучивание сценки, изготовление дома блюд из чёрствого хлеба.
Краткое описание:
Урок представляет собой внеклассное занятие об истории хлебопечения; направлен на воспитание чувства уважения к данному продукту,к людям трудаХод занятия.
Хлеб – гениальное изобретение человечества. Хлеб, хлебушко… Тёплый, душистый, с хрустящей корочкой. Он самый главный на нашем столе. Сколько ни думай, лучше хлеба не придумаешь. У хлеба нет и не может быть конкурентов, никакая другая еда не выдерживает сравнения с хлебом. Это самый древний и самый надёжный вид пищи. Он нужен всем и у всех он есть – доступный, будничный, привычный настолько, что подчас мы не помним о его цене.
Нужны нам и мясо, и фрукты…
Однако, коль строго судить,
Жить можно без многих продуктов –
Без хлеба вовек не прожить.
Хлеб. Какое важное и сильное слово. Хлеб – это богатство, которому нет цены. Хлеб – это рука друга, протянутая в час испытаний.
Но хлеб – это не только продукт питания, это – освящённый веками символ родной земли, символ труда, доброты, дружбы. Его именем люди клялись, краюху материнского хлеба брали с собой в дорогу как благословление. Хлебом и солью русские люди до сих пор встречают и провожают дорогого человека, которому желают оказать почтение.
Всему голова и основа,
В нём труд хлеборобов, их пот.
И хлебушком – ласковым словом –
Зовёт его часто народ.
Какое без хлеба застолье?
Ещё с незапамятных дней
Не зря на Руси хлебом – солью
Встречают желанных гостей.
Игра «Хлебные вопросы»:
- Подберите как можно больше прилагательных к слову «хлеб».
- Назовите хлебобулочные изделия.
- Какой хлеб можно купить в булочной?
- Какой хлеб вы чаще всего покупаете?
- Какой хлеб полезно есть всем?
- Какой хлеб вы никогда не ели?
Чтобы почитать хлеб, надо знать, как он родился, сколько труда вложено в него.
Хлеб до того стар, что установить точно время его рождения невозможно. Древние египтяне и другие народы знали пшеницу и ячмень, умели готовить лепёшки, пряники на горячих камнях. Правда, изделия эти были пресными и жёсткими, так как дрожжи в Египте стали применять гораздо позже, во втором тысячелетии до нашей эры. В жарком климате Египта тесто быстро закисало, его выбрасывали. Но нашлись люди, видимо, бедные, которые стали из кислого теста печь хлеб. Так родился новый вид хлеба – кислый.
Древние греки и римляне не пользовались дрожжами до начала нашей эры, пока не узнали о них от живущих на севере кельтов. Долгое время хлеб, испечённый на дрожжах, считали большой роскошью. А вот в Древней Руси о «квасном» хлебе знали и раньше. Россияне пекли его из ржи и пшеницы.
Кто умел печь хлеб, пользовался большим признанием и почётом. А булочник, «сэкономивший» больше, чем следовало, сахара или масла, жестоко наказывался.
Пшеничный хлеб выпекали самых разных форм и размеров, а ржаной – в виде буханок.
Хлебное поле, большое, как море.
Не сосчитаешь колосьев на нём.
В дружном дозоре, в почётном дозоре
Каждое зёрнышко мы бережём.
Зёрнышко мы согреем заботой
В тёплых и добрых ладонях полей.
Солнышку тоже хватит работы,
Чтобы звенели хлеба веселей.
Хлебные зёрнышки сказочным кладом
Спрячутся в землю и дружно вздохнут.
Самая лучшая в мире награда –
Это живая награда за труд.
Игра «Доскажи словечко»:
- Первыми хлебопёками были …
- Они пекли хлеб на …
- В Египте ели хлеб …
- В Древней Руси пекли хлеб …
- К тем, кто умел печь хлеб относились …
- В нашей стране выпекаются хлебобулочные изделия…
Ломоть хлеба – символ жизни каждого человека. Поэтому и относиться к нему надо бережно: как к самому дорогому, ничем не заменимому в жизни человека.
Пахнет хлеб и солнцем, и землёй,
И слезой, и ветром, и грозой.
Сколько в нём заботы и труда,
Сколько людям он несёт добра!
Игра «Расскажи».
Расскажите своему другу, подруге:
- как пекут хлеб;
-как надо относиться к хлебу
Нелёгок труд земледельца. Тот, кто выращивает хлеб, не бросит недоеденный кусок. Ведь в каждой крошке хлеба труд тысяч людей.
Перед этой пашнею шапку скинь, сынок,
Видишь, пробивается хлебный стебелёк,
Сколько в это зёрнышко вложено труда,
Знают только солнышко, ветер да вода.
Перед ним на цыпочках тракторист шагал,
В сеялки и бороны трактор запрягал.
Перед ним, малюсеньким, крошечным зерном,
Долго думу трудную думал агроном.
Помните, если каждый выбросит в день маленький кусочек хлеба, то за год наберётся примерно двадцать батонов. Если их умножить на количество людей, живущих в нашей стране, то получится, что все вместе мы выбросили хлеб, который выращивали свыше четырём миллионов человек.
Сравните труд хлебороба в прошлом и настоящем:
В старой деревне: В наше время:
1. Пахали на лошадях. Пашут…
2. Сеяли вручную. Сеют…
3. Убирали урожай серпами. Убирают…
4. Перевозили зерно на возах. Перевозят…
5. Хранили зерно в амбарах. Хранят…
Каравай земли и хлеба
На твоём столе –
Ничего сильнее хлеба
Нету на земле.
Инсценировка стихотворения заранее подготовленными детьми:
В школьной столовой шумно и тесно.
Очередь весело, громко шумит –
Все нагуляли большой аппетит.
Мне три ватрушки, булку и чай…
Не напирайте!
Не лезь!
Не толкай!
Суп и котлету, стакан молока…
Чай мне и булку, и хлеб … три куска!
… Вот, наконец, опустели тарелки,
И началась, понеслась … перестрелка.
В воздух летят кусочки батона,
Которые за год слагаются в тонны.
Следует твёрдо запомнить слова:
Хлеб в каждом доме - всему голова!
Хлеб – это труд, знакомый до боли.
Хлеб – это сутки тревожные в поле.
Хлеб – это радость, надежда, награда,
И осквернять хлеб не смейте! Не надо!
В Санкт – Петербурге, во Всесоюзном институте растениеводства, хранятся семена почти всех растении Земли. И одной только пшеницы – 20000 образцов!
Во время ВОВ тысячи людей погибали от голода.
Военный хлеб. Он чёрен был и липок.
Ржаной муки был грубоват помол.
Но расплывались лица от улыбок,
Когда буханку ставили на стол.
Мария Фёдоровна Удалова рассказывала, часто останавливаясь. Что-то подступает к горлу, не даёт говорить. « В ленинградскую блокаду стояли у печей, едва держась от голода на ногах, носили вёдрами воду, принимали из печей буханки хлеба. А из чего пекли! Не мука, а видимость одна. И овсянка, когда была, в ход шла. В самую тяжёлую пору в ход шла целлюлоза. Она хранилась на складах бумажных фабрик. Хлеб с целлюлозой был пышным, а на вкус – как полынь.
Разным он был, хлеб войны. Но всегда и всюду был желанным, как никакая другая еда».
На Невском замерло движенье…
Не ночью, нет – средь бела дня.
На мостовой, как изваянье,
Фигура женщины видна.
Там, на дороге, как во сне,
Седая женщина стояла,
В её протянутых руках
Горбушка свежая лежала.
Нет, не горбушка, а кусок,
Обезображенный бездушьем,
Размятый множеством машин
И всё забытым равнодушьем…
А женщина держала хлеб
И с дрожью в голосе шептала:
«Кусочек этот бы тогда –
И сына я б не потеряла,
Кусочек этот бы тогда…
Кусочек этот бы тогда…»
Кто осквернил? Кто позабыл
Блокады страшные года?
Кто, бросив на дорогу хлеб,
Забыл, как умирал сосед,
Детей голодные глаза
С застывшим ужасом, в слезах.
А Пискарёвку кто забыл?
Там персональных нет могил –
Там вечный молчаливый стон
Терзает память тех времён:
Им не достался тот кусок,
Лежащий здесь, у ваших ног.
Кусок, не подаривший жизнь…
Кто бросил хлеб, тот отнял жизнь.
Кто предал хлеб?
Игра «Найди вторую половинку»
На карточках напечатаны половинки пословиц, дети должны соединить их.
Начала пословиц: концы пословиц:
Хлеб – батюшка,… вода – матушка.
Худ обед, когда… хлеба нет.
У голодного… хлеб на уме.
Хлеба ни куска, так… в горнице тоска.
Красна река берегами,… а обед пирогами.
Хочешь есть калачи,… не сиди на печи.
Кто пахать не ленится, … у того и хлеб родится.
Без золота проживёшь,.. а без хлеба нет.
Конкурс «Лучшие блюда из чёрствого хлеба»
Вот он, хлебушек душистый,
С хрустом, с корочкой витой.
Вот он, тёплый, золотистый,
Словно солнцем налитой.
В каждый дом, на каждый стол
Он пожаловал, пришёл.
В нём здоровье наше, сила,
В нём чудесное тепло.
Сколько рук его растило,
Охраняло, берегло!
Ведь не сразу стали зёрна
Хлебом тем, что на столе,
Люди долго и упорно
Потрудились на земле.
Хлеб – миллионов работников труд.
Хлеб берегите, как жизнь берегут!
www.openclass.ru
МУ «Библиотека» г. Колпашево || Колпашевское краеведение || «Литературное Колпашево» || Луговской Николай (1937-1990)
 Жизнь и творчество Н. С. Луговского неразрывно связано с Нарымским краем, с городом Колпашево. Он родился в Парабельском районе, в семье рыбака. Окончил школу, освоил первую профессию, служил в армии (на Дальнем Востоке в пограничной авиации). После окончания техникума связи до последних дней жил и работал в Колпашево. Несмотря на то, что вот уже много лет, как Н.С.Луговского нет с нами, в Колпашеве его имя памятно многим. И не только потому, что занимал он значительные по меркам небольшого городка посты. А также потому, что писал стихи. Его стихотворения регулярно печатались в газете «Советский Север», входили в состав брошюр с произведениями местных авторов. И сейчас районная газета иногда публикует стихи Н.С.Луговского, не изданные при жизни. Его подборки напечатали на своих страницах газета «Красное знамя» и альманах «Сибирские Афины» (г. Томск).
Жизнь и творчество Н. С. Луговского неразрывно связано с Нарымским краем, с городом Колпашево. Он родился в Парабельском районе, в семье рыбака. Окончил школу, освоил первую профессию, служил в армии (на Дальнем Востоке в пограничной авиации). После окончания техникума связи до последних дней жил и работал в Колпашево. Несмотря на то, что вот уже много лет, как Н.С.Луговского нет с нами, в Колпашеве его имя памятно многим. И не только потому, что занимал он значительные по меркам небольшого городка посты. А также потому, что писал стихи. Его стихотворения регулярно печатались в газете «Советский Север», входили в состав брошюр с произведениями местных авторов. И сейчас районная газета иногда публикует стихи Н.С.Луговского, не изданные при жизни. Его подборки напечатали на своих страницах газета «Красное знамя» и альманах «Сибирские Афины» (г. Томск).
Стихи
Что делать? Я стихи люблю.И сам порой писать решаюсь.В них мысли светлые ловлюИ, как ребенок, восторгаюсь.Они вселяются в меня,Как правда жизни молодая,Как чистый воздух в гари дня — Я строки чудные глотаю.Нет, предпочтенья не отдамСтихам, чей звук слащаво — тонкий,Где фразы длинные, как БАМ,А смысл скромный, как девчонка.Мне чужд «стихов» словесный хлам.Найти жемчужину попробуй!Путь золота в них только грамм,Зато какой высокой пробы.
Жестокость
Я видел раз, блуждая в одиночку,Последствия жесткости и зла:С березкой тополь, спиленные ночью,Лежали на окраине села.Они лежали там без покрывала,Не видно было близких и родных.Как будто смерть их спешно обвенчала,И мертвый поцелуй соединил.Я врезал в память ту картину прочно,Чтоб не терять душевного тепла:С березкой тополь, спиленные ночью,Лежат в обнимку на краю села.
Разнотравье
Разнотравье заливного лугаРасчесал волнисто нежный ветер.Я тебя, желанная подруга,Снова в час назначенный не встретил.Проглядел глаза я в просинь дали.Каждый звук тобой пугал и маял.Уходя с тревожною печалью,Я письмо тебе в стихах оставил.Босоного пробежало лето.По ночам в траву ложится иней.Все еще тебя надеюсь встретить,Я хожу тропинкой той доныне.Позолота с осени скатилась.Разнотравье в стог сметали дальний.Ты вчера во сне ко мне явиласьВ кофточке последнего свиданья.
Утро
Сном безбрежным деревня объята.Спит уставший за день человек.Корноухие псы и псенятаНаследили предутренний снег.Им приятны собачьи забавыВ этот девственный миг тишины — И глядит угольками лукавоВ бледный серп уходящей луны.Вот уж в доме скрепят половицы,В окнах тусклый блеснул огонек,И селькуп поспешил удалитьсяУзкой тропкой в глухой уголок.Новый день в Тюхтерево разбужен.Нарты скрылись, над крышами дым.Ну и с Богом! Я больше не нужен,Дальше все вам известно самим.
Дом на склоне
У дороги, на склоне крутом,В небольшом отдаленном селенье,Ты стоишь одиноко, наш дом,В молчаливом холодном забвенье.Три березы, три добрых сестрыВ палисаднике дремлют беспечно,И тропинка по склону горыЧуть заметно спускается к речке.Нету окон, провис потолок,С пыльных стен осыпается глина.Иссечен и обшарпан порог — Квартиранты рубили налимов.Завалился колодец на дне,Все столбы у забора упали.Двор сгорел от грозы по весне,А тебя кое — как отстояли.Ветер тихо колышет цветы.День в лучах угасающих тает.Я стою как во сне. А мечтыГде-то там, в сорок третьем, витают...Волосенки блестели, как шелк,И глаза любопытством сияли...Русый мальчик ко мне подошел:«Что вы, дяденька, здесь потеряли?»Я его осторожно обнял — Бескорыстное наше наследство — И на ухо тихонько сказал:«Детство, милый, далекое детство».У дороги, на склоне крутом,Молодыми ветрами простужен,Ты стоишь одиноко, наш дом.Никому, видно, больше не нужен.
Материнский хлеб
Узнал я цену хлеба с детских лет, — Не в магазине и не на базаре, — Когда бежал за матерью чуть светПо полю, босоногий, со слезами.Жнивьем подошвы жарило и жгло,На пальцах капли крови выступали.А с кожи больно слазил, как назло,Загар густой коричневой эмалью.Шли женщины. Ложились в след снопы,Увязанные с дивною сноровкой.Звенели в такт зубчатые серпы,Как на лугу в покос звенят литовки.Склонялись спины женщин в ноги ржиВ надсадных, болью ноющих поклонах.А позади вставали шалашиРаскидистых, причудливых суслонов.Я этих женщин помню имена,Тоску их глаз в минутные обеды.Как каждый колос трудного зернаИм нужен был для фронта, для Победы.Уже тогда, мальчишкой, понял я,Зачем весной несло с полей навозом,Зачем зимой на розвальнях — саняхЕго возили с фермы всем колхозом.И та витушка из ржаной муки,Что мать на нас на пятерых делила — Не Божий дар, не властный взмах руки,Не на березе в знойный день родилась.Мне слово «хлеб» созвучно слову «мать»:В нем скрыто материнское начало.В каком часу она ложилась спать?С какими петухами поднималась?Откуда ей досталось столько сил?Где тот родник искрится величаво?Шумят поля пшеницы на Руси,Шумят как память материнской славы.Узнал я цену хлеба с детских лет, — Не в магазине и не на базаре, — Когда бежал за матерью чуть свет...Когда война была еще в разгаре.
Мой дед
Жил мой дед, Ефим Петрович Кожин.Вот какой попробуй угоди:Если в духе — что твой ангел Божий,А не в духе — зря не подходи.Вечно хмурый и скупой на слово,Был силен, хоть ростом не велик.Он вносил по восемь плах сосновыхС берега по трапу в неводник.Черные усы по старой моде,И глаза обычно «на крове».Стоит гаркнуть где — ни будь в народе — Насекомым тошно в голове.Лишь, бывало, выйдет он с подворья,Все робея пятятся назад:Проходите, ваше благородье,Наша деревенская гроза.Как — то раз зашел Кузьма Заварзин,Потоптался, молвил: «Здравствуй, дед.Коровенку выбрать на базареПомоги, не откажи, сосед».«Это ничего, что деньги нажил, — Голос деда громом нарастал. — А жену — то сам нашел, аль как же?Или тоже кто-то выбирал?Я таким наукам не учился,И запомни это наперед!»Тут сосед наш, кажется, смутился,Пятясь молча вышел из ворот.«Да смотри, — съязвил мой дед сердито,Будешь покупать — не проворонь!У коров рассечено копыто,Круглое копыто — это конь!»Жил мой дед, Ефим Петрович Кожин.Да махнул рукой на белый свет,Ранним утром век свой подытожив.И теперь его уж больше нет.
Сельская ночь
Загляделась луна молодаяНа заснувшее наше село.А вдали от притихших окраинРечку сонную гладит весло.Звезды в небе, как искры, сияют,Не алеет над небом восток,И проворную тень догоняя,Одиноко скользит обласок.У таловой опушки, на склоне,Теплый ветер колышет листву.Дремлют чутко уставшие кони,Гривы пышные бросив в траву.Серых уток тяжелые стаиОпустились на россыпь озер.Словно дышит, чуть слышно вздыхая,Разнотравья ночного ковер.Пахнет свежестью влажная пойма.Копны сена глядятся в овраг.Спи, родная природа, спокойно.Не буди ее, поздний рыбак.
Каранак
С любовью вспоминаяРодимый свой очаг,Вновь навестить тебя яПриехал, Каранак.С тетрадкою в карманеДа пачкой папирос.Ни дара и ни даниТебе я не привез.Стоит народ у трапа.И каждый ждет своих.На землю, словно на пол,Схожу среди других.Все в праздничной одежде — В деревне выходной.«А этот что заездил?» — Вдруг слышу за спиной.Мальчишка конопатый,Царапая живот,Кричит с горы ребятам:«Опять приехал тот...»А чувства вновь иныеОбрушатся, как шквал.Иду в поля родные,Как с корабля на бал.Иду, как завсегдатай,В мечтах до забытья,Иду без провожатых,Собаки и ружья.Кузнечик, как будильник,Встревожит тишину.Я строчку, как навильник,Несу в строфу — копну.Простора панорамаБез края и конца.Здесь ездил на Усть — ЯмыЗа водкой для отца.Здесь плыли пароходы,И не было «ракет».Промчались жизни годы...Отца давно уж нет.Родня живет в Нарыме,Друзья пробились в «свет»Но чтит меня понынеОдин знакомый дед.Под вечер дед ВасилийРасскажет мне о том,Как бабку хоронилиНа семьдесят шестом...Как пробовал жениться — Жить одному невмочь — Но старая девицаУшла на третью ночь.Как у него завознюУгнали в Парабель...Из прошлого в сегодняНачертим параллель.То, промолчав, он спросит,Как будто невзначай:«Курить еще не бросил?Ты с этим брат кончай!»...И лишь лучами светаДеревню озарит,До будущего летаПростимся у «Зари».Смотрю, как не по силамТеперь его житье.А он глядит унылоИ думает свое.В замок ладони сделав,С кормы ему машу.А деду что за дело,О чем я напишу.
Агаша
Где воют отчаянно волки,Где сердце от скуки замрет,В забытом таежном поселкеСелькупка Агаша живет.Во власти традиции предков,Познав тишину и покой,С характером жестким на редкостьИ сильной на редкость рукой.Я, детству бросаясь в объятьяС вершины осознанных дней,Как давний земляк и приятельПриехал из города к ней.В избе деревянные нары,Под нарами в ножнах тесках,Ружьишко (отцовский подарок)Да стая огромных собак.Поселок, безмолвьем объятый,Потупил безрадостный взор.Стоит без вины виноватыйПод плотным конвоем озер.Стоит он, судьбе подчиняясь,У памяти в вечном долгу,И жмурятся, словно стесняясь,Пустые избушки в снегу.Охочие чудного бораСтремятся сюда, как на юг — Повалены наземь заборы,И горы бутылок вокруг.Мне слышится снова, как в детстве,Знакомый селькупский язык.Веселые парни и девкиВдоль берега тянут бродник.Агаша мне мало — помалуРасскажет, как трудно жила,Что рыбы в озерьях не стало,И белка куда-то ушла.Вздохнет потихоньку Агаша,С тоской поглядит на тайгу,Мечтая о жизни вчерашней,Предложит мне: «Чай ни ду гу».На узкой таежной дорогеРастает ее силуэт.А в душу ворвется тревога,Как в прошлое гаснущий свет.Одна из известного родаСелькупка Агаша живет.
Колпашево
Утро первым светом засияло.Горизонт над лесом заалел.Город мой от строек до причаловОжил, заработал, зазвенел.Рядовой рабочий неизменноИ с характером сибиряков,Стал ты авиатором отменным,Геофизиком и лесником.Тот, кто здесь нашел себя до боли,Кто в других краях не может жить,Кто привык делиться хлебом — солью,Город свой не может позабыть.Здесь живем мы, учимся и строим.Нам грустить здесь просто недосуг.Нам опора трудною порою — Теплота любимых женских рук.В жаркий день и в жгучие морозыМанит нас невольно думать вслухКрасота заснеженной березы,Белым снегом тополиный пух.Пусть у нас нет подвигов отважных,Пусть минуты ускоряют бег.Нас судьба свела с тобой однажды — Не на миг, не на год, а навек.Где давит простор и свобода,Где сердце от скуки замрет.
Любовь
Дует ветр северный.Даль в глазах рябит.Мне твой взгляд рассеянныйЧто-то говорит.Ты мне радость новая,Что еще не знал,Закружила голову,Как хмельной бокал.Повела разливамиПолноводных рек,Веснами дождливымиИ в грозу, и в снег.Простудила месяцем,Вылечила в зной.Ты, моя ровесница,Я теперь иной.Горести бывалыеСтали по плечу.Месяц с зорькой алоюПодружить хочу.Жизнь в заботах стоящихМне вести пора.Я соседей спорящихПомирил вчера.Я тебе уверенноЗагляну в глаза.По крутому берегуЗаблестит роса.Две тропинки вечеромВновь сойдут в одну,Чтоб опять над речкоюСлушать тишину.Утону в них заживоИ уйду на дно.А тебе, мне кажется,Это все равно.Зацелую до смерти,Вспыхну без огня.А потом, о господи,Успокой меня.Чуть затрону волосы — Зазвенит ручей.Наслаждаюсь голосомЯ твоих речей.Он звенит отрадоюВ полуночный час,И искринки падаютУ тебя из глаз.Дует ветер северный.Даль в глазах рябит.Мне твой взгляд рассеянныйЧто-то говорит...
Рыжуха
Тот день в деревне помнят старожилы,Когда на редкость раннею веснойБольшая, в теле, рыжая кобылаПропала перед самой посевной.На берегу, у старой переправы,Предсмертный вздох запечатлела грудь.«Башмак» тяжелый на передней правойИ в смерть, казалось, ей мешал шагнуть.Закрыв глаза, согнув в суставах ноги,Она как будто отошла ко сну.И все ее нелегкие дорогиТеперь незримо собрались в одну.О том ли речь, кто первый, кто последнийУслышал ту непрошеную весть.Шел мелкий нудный дождь, но вся деревня,Как по сигналу, оказалась здесь.«Знать, укатали Рыжую ухабы», — Старухи горевали нараспев.«Кормилица ты наша», — выли бабы.И ребятишки замерли в толпе.«Ушла надежда наша, — говорили. — Такой кобыле только жить да жить.Возы любые были ей по силам,Когда терпели дуги и гужи».Стоял народ, как будто заворожен,И каждый брал на душу часть вины.И в борозде, и в зимнем бездорожьеЕй не было замены и цены.Во всех обозах первая шагалаНаперекор морозам и ветрам,В лугах табун от зверя отбивала — На холке от когтей остался шрам...Им всем сейчас невольно вспоминалось:Как упряжь в полынье ее спасла,Как скинула в пути на постояломИ больше уж потомства не ждала.Из-под небес сурово и упрямоСпускался вечер серой пеленой.Перекрестившись, выкопали ямуИ труп ее зарыли под сосной.Тайга шумела кронами деревьев,Врываясь в приглушенный разговор.Как мать, ждала их издали деревня,Обняв перекосившийся забор.Поникшие, они с тревогой жгучейШли молча вдоль невспаханных полей.Как крылья хищника, блуждающие тучи,Казалось, прижимали их к земле.Потом они косили и пахали,Как клад зимой хранили семена.А где-то, громом оглушая дали,Еще гремела страшная война.Тот день в деревне помнят старожилы.Времен военных деревенский вид...Стоит народ над павшею кобылой,И мелкий дождь уныло моросит.
kolplib.tomsk.ru
Совесть и честь
Между совестью и честью есть одно существенноеразличие. Совесть всегда исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере очищаются. Совесть«грызет». Совесть не бывает ложной. Она бываетприглушеннойили слишком преувеличенной (крайне редко). Но представления о чести бывают совершенно ложными, и эти ложные представления наносятколоссальныйущерб обществу. Я имею в виду то, что называется«честью мундира». У нас исчезло такоенесвойственноенашему обществу явление, как понятиедворянской чести, но «честь мундира» остается тяжелым грузом. Точно человек умер, а остался только мундир,
с которого сняты ордена, и внутри которого уже не бьется совестливое сердце.
Честь истинная– всегда в соответствии с совестью. Честь ложная –миражв пустыне, в нравственной пустыне человеческой (вернее,«чиновничьей»)души.
(Д.Лихачёв.)
ХЛЕБ
Хлеб – чудеснейшее открытие человечества. Первому безымянному хлеборобу люди должны были бы поставить памятник, потому что, несмотря на многовековой прогресс, ничего более полезного и необходимого для человека не придумано. В наши дни «добывание» хлебанасущного- дело как будто весьма простое. Зашёл в булочную, окинул взглядом хлебные полки, выбрал нужное, заплатил деньги и ешь на здоровье. Но так ли всё просто?
Ведь это только потребителюхлеб достаётся легко. Тем же, кто его производит, он стоит тяжёлого труда,иссушающих заботой бессонных ночей, напряжения всехфизических и духовных сил. Эта битвабескровна, но вдовольорошенасолёным потом хлеборобов. Для них хлеб не только конечный продукт, но и личная гордость, достоинство, радость и боль. Так можем ли мы не жалеть, не беречь, бездумно бросать на ветер то, что даёт всем нам здоровье и силу, богатство и уверенность в завтрашнем дне? Хлеб – дело жизни каждого из нас, и обращаться с ним должно на ВЫ.(В. Ткаченко.)
Хлеб – гениальноеизобретение человечества. Сколько ни думай, лучше хлеба не придумаешь. У хлеба нет и не может быть конкурентов, никакая другая еда не выдерживает сравнения с хлебом.
Но хлеб не только продукт питания, это – освещённый веками символродной земли, символ труда, доброты, дружбы. Его именем люди клялись,краюху материнского хлеба брали с собой в дорогу какблагословение. Хлебом и солью до сих пор русские люди встречают и провожают дорогого, любимого человека, которому желают оказатьпочтение.(К. Барыкин.)
Много раз за свою жизнь приходилось мне есть первый хлеб нового урожая. Ни с чем не сравним его сладковатый привкуси необыкновенный дух. Пахнет он солнцем, молодой соломой и хлебным дымом.
Я благословила хлеб и, когда откусила от ломтя, ощутила во рту вроде бы какой-то незнакомый вкус и запах. Это был запах комбайнерских рук – свежего зерна, нагретого железа и керосина. Я брала новые ломти, и все они припахивали керосином, но никогда не ела я такого вкусного хлеба. Потому что это был сыновний хлеб. Его держал в своих комбайнерских руках мой сын. Это был народный хлеб. Его растил мой сын вместе с теми, кто был с ним на полевом стане.Святойхлеб! Сердце моё переполнилось гордостью за сына, но об этом никто не знал. И я подумала в ту минуту о том, что материнское счастье идёт от народного счастья, как стебель от корней. Нет материнской судьбы без народной судьбы.(Ч.Айтматов.)
«Без хлеба нет песен». Это только одна из многих пословиц о хлебе. В нашем языке сотни тысяч слов. Если подумать, что стоит за каждым из них, слово «хлеб» надо поставить на самое первое место. Древнейшая профессия на земле – хлебопашец. В египетской гробнице, простоявшей три с половиной тысячи лет, был найден печёный хлеб. Кусок окаменевшего хлеба хранится в музее Цюриха. Его нашли археологи в иле древнего озера. Шесть тысяч лет назад был испечён этот хлеб.
Хлеб! Нет на земле важнее работы, чем вовремя взять у земли поспевшие зёрна.
(В. Песков.)
studfiles.net
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Пример видео 3 Пример видео 3 |  Пример видео 2 Пример видео 2 |  Пример видео 6 Пример видео 6 |  Пример видео 1 Пример видео 1 |  Пример видео 5 Пример видео 5 |  Пример видео 4 Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»