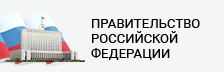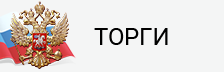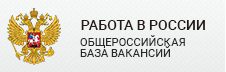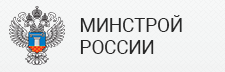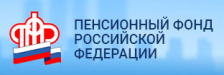ОдигитриЯ Православие или смертЬ. Крупин нынешний хлеб читать
Рассказы - Православный журнал "Фома"
В сентябре 2011 года исполняется 70 лет писателю Владимиру Крупину, ставшему в этом году первым обладателем вновь учрежденной Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. К юбилею мы публикуем два коротких рассказа Владимира Николаевича, которые, как нам кажется, лучше всего дают представление о его творчестве.Молитва матери
«Материнская молитва со дна моря достанет» — эту пословицу, конечно, знают все. Но многие ли верят, что пословица эта сказана не для красного словца, а совершенно истинно, и за многие века подтверждена бесчисленными примерами.
Отец Павел, монах, рассказал мне случай, происшедший с ним недавно. Он рассказал его, как будто всё так и должно было быть. Меня же этот случай поразил, и я его перескажу, думаю, что он удивителен не только для меня.
На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну. Исповедать. Назвала адрес.
— А я очень торопился, — сказал отец Павел, — и в тот день не успел. Да, признаться, и адрес забыл. А еще через день рано утром она мне снова встретилась, очень взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Почему-то я даже не спросил, почему она со мной не шла. Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко, я был в облачении. Я поздоровался, говорю: ваша мама просила меня к вам зайти. Он вскинулся: «Ладно врать, у меня мать пять лет как умерла». А на стене ее фотография среди других. Я показываю на фото, говорю: «Вот именно эта женщина просила вас навестить». Он с таким вызовом: «Значит, вы с того света за мной пришли?» — «Нет, — говорю, — пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни: завтра с утра приходи в храм». — «А если не приду?» — «Придешь: мать просит. Это грех — родительские слова не исполнять».
И он пришел. И на исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он мать выгнал из дому. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не хоронил.
А вечером я в последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на ней был белый, а до этого — темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так как раскаялся и исповедался, и что она уже с ним виделась. Тут я уже сам, с утра, пошел по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, увезли в морг.
Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, думаю: значит, матери было дано видеть своего сына с того места, где она была после своей земной кончины, значит, ей было дано знать время смерти сына. Значит, и там ее молитвы были так горячи, что ей было дано воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия. Ведь это же так страшно — умереть без покаяния, без причастия.
И главное: значит, она любила его, любила своего сына, даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она не сердилась, жалела и, уже зная больше всех нас об участи грешников, сделала всё, чтобы участь эта миновала сына. Она достала его со дна греховного. Именно она, и только она — силой своей любви и молитвы.

Утя
Когда ему было четыре года, пришла похоронка на отца. Мать закричала так страшно, что от испуга он онемел и с тех пор говорил только одно слово: «Утя».
Его так и звали: Утя.
Мы играли с ним по вечерам в большом пустом учреждении среди столов, стульев, шкафов. В этом учреждении его мать служила уборщицей и ночным сторожем.
Утя не мог говорить, но слышал удивительно. Ни разу не удалось мне спрятаться от него за шкафом или под столом. Утя находил меня по дыханию.
Было у нас и еще одно занятие — старый патефон. Иголок не было, и мы приловчились слушать пластинку через ноготь большого пальца. Ставили ноготь в звуковую дорожку, приникали ухом и терпели, так как ноготь сильно разогревался. Одну пластинку мы крутили чаще других.
Цыганочка смуглая, смуглая,
Вот колечко круглое, круглое,
Вот колечко с пальчика, пальчика,
Погадай на мальчика, мальчика.
Потом патефон у нас отобрали. Два раза Утя напомнил мне о нем. Один, когда мы шли по улице и увидели женщину с маникюром. Он показал и замычал. «Удобно», — сказал я. Он захохотал. Другой раз он читал книжку о Средневековье, и ему попалось место о пытках, как загоняли иглы под ногти. Он прибежал ко мне, и мы вспоминали, как медленно уходила боль из-под разогретого ногтя.
Утя учился с нами в нормальной школе. На одни пятерки, потому что на вопросы отвечал письменно и имел время списать. Тем более при его слухе, когда он слышал шепот с последней парты.
Учителя жалели Утю. В общем, его все жалели, кроме нас, сверстников. Мы обходились с ним, как с ровней, и это отношение было справедливым, потому что для нас Утя был вполне нормальным человеком. Кстати сказать, мы не допускали в игре с Утей ничего обидного. Не оттого, что были такие уж чуткие, а оттого, что Утя легко мог наябедничать.
Мать возила Утю по больницам, таскала по знахаркам. Когда приходили цыгане, просила цыганок погадать, и много денег и вещей ушло от нее.
Ей посоветовали пойти в церковь. Она пошла, купила свечку, но не знала, что с ней делать. Воск размягчился в пальцах. Она стояла и шептала: «Чтоб у меня язык отвалился, только чтоб сын говорил…»
Когда хор пропел «Господи помилуй» и молящиеся встали на колени, она испугалась и ушла. И только дома зажгла свечку и сидела перед ней, пока свеча не догорела. И чем чаще мать ходила в церковь, тем больше верила, что Утя исцелится. Мы купались, и я его нечаянно столкнул с высокого обрыва в реку. Он упал в воду во всей одежде, быстро всплыл и заорал:
— Ты что, зараза, толкаешься?!
После этого ошалело выпучил глаза, растопырил руки и стал тонуть. Мы вытащили его, он выскочил на берег, плясал, кувыркался, ходил на руках и кричал:
Цыганочка смуглая, смуглая,
Вот колечко с пальчика, пальчика!
Вот колечко круглое, круглое!
Погадай на мальчика, мальчика!
Говорил непрерывно, боялся закрыть рот, думал, что если замолчит, то насовсем.
Помню, мы особо не удивились, что Утя заговорил. Мы даже оборвали его болтовню, что было несправедливо по отношению к человеку, молчавшему десять лет.

Утя побежал домой, по дороге называл вслух всё, что видел: деревья, траву, заборы, дома, машины, столбы, ворвался в дом и крикнул:
— Есть хочу!
Его мать упала без чувств, а очнувшись, зажгла свечку перед недавно купленной иконой.
Утя говорил без умолку. Когда кончился запас его слов, схватил журнал «Крокодил» и прокричал его весь, от названия до тиража.
Он уснул после полуночи. Мать сидела у кровати до утра, вздрагивала и крестилась, когда сын ворочался во сне.
Утром Утя увидел одетую мать, сидящую у него в ногах, и вспомнил, что он может говорить. Но испугался, что снова замычит или скажет только: «Утя». Он выбежал из комнаты и залез на крышу. Сильно вдыхал в себя воздух, раскрывал рот и снова закрывал, не решаясь сказать хотя бы слово.
Он глядел на дорогу, отдохнувшую за ночь, на тяжелый неподвижный тополь, на заречный песчаный берег, на котором росли холодные лопухи мать-и-мачехи, сверху затянутые тусклой скользкой зеленью, снизу бело-бархатистые; он видел рядом с крышей черемуху, ее узкие листья с красными сосульками болячек, воробьев, клюющих созревшие ягоды; печную трубу, над которой струился прозрачный жар, — он мог все это назвать, но боялся.
Наконец он вдохнул и, не успев решить, какое скажет слово, выдохнул, и выдох получился со стоном, но этот стон был не мычанием, а голосом, и Утя засмеялся, присел и стал хлопать по отпотевшей от росы железной крыше.
Его мать расспросила нас о происшедшем на реке и испекла много-много ватрушек. Мы ели их на берегу, и, когда съели, я снова спихнул Утю в воду, тем самым окончательно равняя его со всеми. Он, однако, обиделся всерьез.
В сентябре учителя подходили к Уте, гладили по голове и вызывали к доске с удовольствием, чтобы слышать его голос. Но здесь голоса от Ути было трудно дождаться: он почти ничего не знал, подсказок слушать не хотел и быстро нахватал двоек.
В конце концов учителя стали его упрекать. В ответ он всегда произносил услышанную от кого-то фразу: «Я детство потерял!»
Он и матери так кричал, когда чего-то добивался. Например, появились радиолы, и он потребовал, чтобы мать ему купила.
Радиола стояла у них на тумбочке в углу под иконами.
Мать слушала только одну пластинку, заигранную нами, — о цыганке. А Утя накупил тяжелых черных пластинок и ставил их каждый вечер.
Особенно любил военные песни, которых мать не выносила. Она просила не заводить их при ней, но Утя отмахивался. Когда он садился к радиоле, мать уходила на улицу.
Утя включал звук на полную мощность, и радиола гремела на всю округу…
Владимир Николаевич Крупин
родился в 1941 году в селе Кильмезь Кировской области, в крестьянской семье. Работал на машинно-тракторной станции, литературным сотрудником в районной газете, слесарем, грузчиком. Служил в армии. Учился в Московском областном педагогическом институте, а затем работал учителем, сотрудником Центрального телевидения, был членом редколлегии журнала «Новый мир».
В 1974 году в издательстве «Современник» вышел первый сборник рассказов и повестей Крупина «Зёрна», ставший значительным явлением «деревенской прозы».
С 1989 по 1992 год — главный редактор журнала «Москва».
В 2011 году стал первым лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Рисунки Артема Безменова
foma.ru
Босиком по небу (Крупинки) Сборник рассказов
Красная гора
Как же давно я мечтал и надеялся жарким летним днем пойти через Красную гору к плотине на речке Юг. Красная гора — гора детства и юности.
И этот день настал. Открестившись от всего, разувшись, чтобы уже совсем как в детстве ощутить землю, по задворкам я убежал к реке, напился из родника и поднялся на Красную гору. Справа внизу светилась и сияла полная река, прихватившая ради начала лета заречные луга, слева сушились на солнышке малиново-красные ковры полевой гвоздики, а еще левей и уже сзади серебрились серые крыши моего села. А впереди, куда я подвигался, начиналась высокая бледно- зеленая рожь.
По Красной горе мы ходили работать на кирпичный завод. Там, у плотины, был еще один заводик, крахмалопаточный, стояли дома, бараки, землянки. У нас была нелегкая взрослая работа: возить на тачках от раскопа глину, переваливать ее в смеситель, от него возить кирпичную массу формовщицам, помогать им расставлять сырые кирпичи для просушки, потом, просушенные, аккуратненько везти к печам обжига. Там их укладывали елочкой, во много рядов, и обжигали сутки или больше. Затем давали остыть, страшно горячие кирпичи мы отвозили в штабели, а из них грузили на машины или телеги. Также пилили и рубили дрова для печей.
Обращались с нами хуже, чем с крепостными. Могли и поддать. За дело, конечно, не так просто. Например, за пробежку босыми ногами по кирпичам, поставленным для просушки.
Помню, кирпич сохранил отпечаток ступни после обжига, и мы спорили чья. Примеряли след босыми ногами, как Золушка туфельку.
Обедали мы на заросшей травой плотине. Пили принесенное с собой молоко в бутылках, прикусывали хлебом с зеленым луком. Тут же, недалеко, выбивался родник, мы макали в него горбушки, размачивали и этой сладостью насыщались. Формовщицы, молодые девушки, но старше нас, затевали возню. Даже тяжеленная глина не могла справиться с их энергией. Дома я совершенно искренне спрашивал маму, уже и тогда ничего не понимая в женском вопросе:
— Мам, а почему так: они сами первые пристают, а потом визжат?
Вообще это было счастье — работа. Идти босиком километра два по росе, купаться в пруду, влезать на дерево, воображать себя капитаном корабля, счастье — идти по опушке, собирать алую землянику, полнить ею чашку синего колокольчика, держать это чудо в руках и жалеть и не есть, а отнести домой, младшим — брату и сестренке.
И сегодня я шел босиком. Шел по тропинкам детства. Но уже совсем по другой жизни, нежели в детстве: в селе, как сквозь строй, проходил мимо киосков, торгующих похабщиной и развратом в виде кассет, газет, журналов, мимо пивных, откуда выпадали бывшие люди и валились в траву для воссоздания облика, мимо детей, которые слышали матерщину, видели пьянку и думали, что это и есть жизнь и что им так же придется пить и материться.
Но вот что подумалось: моя область на общероссийском фоне — одна из наиболее благополучных в отношении пьянства, преступности, наркомании, а мой район на областном фоне меньше других пьет и колется. То есть я шел по самому высоконравственному месту России. Что же тогда было в других местах?.. Я вздохнул, потом остановился и обещал себе больше о плохом не думать.
А вот оно, это место, понял я, когда поднялся на вершину Красной горы. Тут мы сидели, когда возвращались с работы. Честно говоря, иногда и возвращаться не хотелось. С нами ходил худющий и бледнющий мальчишка Мартошка, он вообще ночевал по баням и сараям. У него была мать всегда пьяная, или злая, если не пьяная, и он ее боялся. Другие тоже не все торопились домой, так как и дома ждала работа — огород, уход за скотиной. Да и эти всегдашние разговоры: «Ничего вы не заработаете, опять вас обманут». А тут было хорошо, привольно. Вряд ли мы так же тогда любовались на заречные северные дали, на реку, как я сейчас, вряд ли ощущали чистоту воздуха и сладость ветра родины после душегубки города, но все это тогда было в нас, с нами, мы и сами были частью природы.
Я лег на траву, на спину и зажмурился от обилия света. Потом прйвык, открыл глаза, увидел верхушки сосен, берез, небо, и меня даже качнуло — это вся земля подо мной ощутимо поплыла навстречу бегущим облакам. Это было многократно испытанное состояние, что ты лежишь на палубе корабля среди моря. Даже вспомнились давно забытые юношеские стихи, когда был летом в отпуске, после двух лет армии, оставался еще год, я примчался в свое село. Конечно, где ощутить встречу с ним? На Красной горе. Может быть, тут же и сочинил тогда, обращаясь к Родине: «Повстречай меня, повстречай, спой мне песни, что мы не допели. Укачай меня, укачай, я дитя в корабле-колыбели». Конечно, я далеко не первый сравнивал землю с кораблем, а корабль с колыбелью, и недопетые песни были не у меня одного, но в юности кажется, что так чувствуешь только ты. Тогда все было впервые.
Вдруг еще более дальние разговоры услышались, будто деревья, березы, трава их запомнили, сохранили и возвращали. У нас, конечно, были самые сильные старшие братья, мы хвалились ими, созидая свою безопасность. Говорили о том, что в городе торговали пирожками из человеческого мяса. А узнали по ноготку мизинца. Мартошка врал, что ездил на легковой машине и что у него есть ручка, которой можно писать целый месяц без всякой чернильницы.
— Спорим! — кричал он. — На двадцать копеек. Спорим!
Мартошка всегда спорил. Когда мы, вернувшись в село, не желая еще расставаться, шли к фонтану — так называли оставшуюся от царских времен водопроводную вышку, — то Мартошка всегда спорил, что спрыгнет с фонтана, только за десять рублей. Но где нам было взять десять рублей? Так и остался тогда жив Мартошка, а где он сейчас, не знаю. Говорили, что он уехал в ремесленное, там связался со шпаной. Жив ли ты, Мартошка, наелся ли досыта?
На вышке, вверху, в круглом помещении находился огромнейший чан. Круглый, сбитый из толстенных плах резервуар. В диаметре метров десять, не меньше. По его краям мы ходили как по тропинке. В чане была зеленая вода. Мартошка раз прыгнул в нее за двадцать копеек. Потом его звали лягушей, такой он был зеленый.
Я очнулся. Так же неслись легкие морские облака, так же клонились им навстречу мачты деревьев, так же серебрились зеленые паруса березовой листвы. Встал, ощущая радостную легкость. Отсюда, под гору, мы бежали к плотине, к заводу. Проскакивали сосняк, ельник, березняк, вылетали на заставленную дубами пойму, а там и плотина, и домики, и карлик пасет гусей. Мы с этим карликом никогда не говорили, но спорили, сколько ему лет.
Бежать по-прежнему не получилось: дорога была выстелена колючими сухими шишками.
Чистый когда-то лес был завален гнилым валежником, видно было, что по дороге давно не ездили. Видимо, она теперь в другом месте. Все же переменилось, думал я. И ты другой, и родина. И ты ее, теперешнюю, не знаешь. Да, так мне говорили: не знаешь ты Вятки, оттого и восхищаешься ею. А жил бы все время — хотел бы уехать. Не знаю, отвечал я. И уже не узнаю. Больше того, уже и знать не хочу. Что я узнаю? Бедность, пьянство, нищету? Для чего? Чтоб возненавидеть демократию? Я ее и в Москве ненавижу. А здесь родина. И она неизменна.
Все так, говорил я себе. Все так. Я подпрыгивал на острых шишках, вскрикивал невольно и попадал на другие. Но чем ты помогаешь родине, кроме восхищения ею? Зачем ты ездишь сюда, зачем все бросаешь и едешь? И отказываешься ехать за границу, а рвешься сюда. Зачем? Ничего же не вернется. И только и будешь рвать свое сердце, глядя, как нашествие на Россию западной заразы калечит твою Родину. Но главное, в чем я честно себе признавался, — это то, что еду сюда как писатель, чтобы слушать язык, родной говор. Это о нашем брате сказано, что ради красного словца не пожалеет родного отца. Вот сейчас в магазине худая, в длинной зеленой кофте женщина умоляла продавщицу дать ей взаймы. «Я отдам, — стонала она, — отдам. Если не отдам, утоплюсь». — «Лучше сразу иди топись, — отвечала продавщица. — Хоть сразу, хоть маленько погодя. Я еще головой не ударилась, чтоб тебе взаймы давать. А если ударилась, то не сильно». Вот запомнил, вот записать надо, и что? Женщина от этого не протрезвеет. И так же, как не записать загадку, заданную мужчиной у рынка: «Вот я вас проверю, какой вы вятский. Вот что такое: за уповод поставили четыре кабана?» Когда я ответил, что это означает: за полдня сметали четыре стога, он был очень доволен: не все еще Москва из земляка вышибла. «А я думал, вас Москва в муку смолола».
Ну, вот зеленая пойма. Но где дома, где бараки? Ведь у нас нет ничего долговечнее временных бараков. Я оглядывался. Где я? Все же точно шел, точно вышел.
Снесли бараки, значит. Пойду к плотине, к заводу. Я пришел к речке. Она называлась Юг. Тут она вскоре впадала в реку Кильмезь. Я прошел к устью. Начались ивняки, песок, бело-бархатные лопухи мать-и-мачехи, вот и большая река заблестела. А где плотина? Я вернулся. Нет плотины. А за плотиной был завод. Где он? Может быть, плотину разобрали или снесли водопольем, но как же завод? И где другой завод, крахмалопаточный? Где избы?
Я прошел повыше по речке, продираясь через заросли. Не было даже никаких следов. Ни человеческих, ни коровьих. Тут же тогда стада паслись. Я остановился, чувствуя, что весь разгорелся. Прислушался. Было тихо. Только стучало в висках. Тихо. А почему не взлаивают собаки, не поют петухи? Вдруг бы закричали гуси? Нет, только взбулькивала в завалах мокрого хвороста речка и иногда шумел вверху, в ветвях елей, ветер.
Вдруг я услышал голоса. Явно ребячьи. Звонкие, веселые. Пошел по осоке и зарослям на их зов. Поднялся по сухому обрыву и вышел к палаткам. На резиновом матраце лежала разогнутая, обложкой кверху, книга «Сборник анекдотов на все случаи жизни», валялись ракетки, мячи. Горел костер, рядом стояли котелки. Меня заметили. Ко мне подошли подростки, поздоровались.
— Вы не знаете… — начал я говорить и оборвал себя: они же совсем еще молодые. — Вы со старшими?
— Да, с тренером.
Уже подходил и тренер. Я спросил его: где же тут заводы, кирпичный и крахмалопаточный, где плотина? Он ничего не знал.
— Вы местный?
— Да. Ходим сюда давно, здесь сборы команд, тренировки.
— Ну не может же быть, — сказал я, — чтоб ничего не осталось. Не может быть.
Ничем они мне помочь не могли и стали продолжать натягивать меж деревьев канаты, чтобы, как я понял, завтра соревноваться, кто быстрее с их помощью одолеет пространство над землей.
Снова я кинулся к берегу Юга. Ну где хотя бы остатки строений, хотя бы остовы гигантских печей, где следы плотины? Нет, ничего не было. Не за что даже было запнуться. Уже ни о чем не думая, я съехал по песку в чистую холодную воду и стал плескать ее на лицо, на голову, на грудь.
Гибель Атлантиды я пережил гораздо легче. Атлантида еще, может быть, всплывет, а моя плотина — никогда. Никогда не будет на свете того кирпичного завода, тех строений, тех землянок. Никогда. И хотя говорят, что никогда не надо говорить «никогда», я говорил себе: никогда ничего не вернется. Все. Надо было уходить, уходить и не оглядываться. Ничего не оставалось за спиной, только воспоминания да новое поколение, играющее в американских актеров.
Я прошел зеленую пойму, заметив вдруг, как усилилось гудение гнуса, прошел по сосняку, совершенно не чувствуя подошвами остроты сухих шишек, и вышел на взгорье. Куда было идти? В прошлом ничего не было, в настоящем ждали зрелища пьянки и ругани. Измученные, печальные, плохо одетые люди. Тени людей. И что им говорить: не пейте, лучше смотрите телевизор. Очень много они там увидят: мордобой, ту же пьянку, разврат и насилие.
Я не шел, а брел, не двигался, а тащил себя по Красной горе. О, как я понимал в эти минуты отшельников, уходящих от мира! Как бы славно — вырыть в обрыве землянку, сбить из глины печурку, натаскать дров и зимовать. Много ли мне надо? Никогда я не хотел ни сладко есть, ни богато жить. Утвердить в красном углу икону и молиться за Россию, за Вятку, лучшую ее часть. Но как уши от детей? Они уже большие, они давно считают, что я ничего не понимаю в современной жизни, и правильно считают. А как от жены уйти? Да, жену жалко. Но она-то как раз поймет. Что поймет? Что в землянку уйду? Да никуда я не уйду. Так и буду мучиться от осознания своего бессилия чем-то помочь Родине.
Тяжко вздыхал я и заставлял себя вспомнить и помнить слова преподобного Серафима Саровского о том, что прежде, чем кого-то спасать, надо спастись самому. Но опять же, как? Не смотреть, не видеть, не замечать ничего? Отстаньте, я спасаюсь. Да нет, это грубо — конечно, не так. Молиться надо. Смиряться.
В конце концов, это же не трагедия — перенос завода. Выработали глину и переехали. Люди тоже. Плотину снесло, печи разобрали, все же нормально. Но меня потрясло совершенно полное исчезновение той жизни. Всего сорок лет, и как будто тут ничего не было. И что? И так же может исчезнуть что угодно? Да, может. А что делать? Да ничего ты не сделаешь, сказал я себе. Смирись.
Случай для проверки смирения подвернулся тут же. Встреченный у подножия горы явно выпивший мужчина долго и крепко жал мою руку двумя своими и говорил:
— Вы ведь наша гордость, мы ведь вами гордимся. А скажите, откуда вы берете сюжеты, только честно? Из жизни? Мне можно начистоту, я пойму. Можно даже намеком.
— Конечно, из жизни, — сказал я. — Сейчас вы скажете, что вам не хватает на бутылку, вот и весь сюжет.
Он захохотал довольно.
— Ну ты, земеля, видишь насквозь.
— У меня таких сюжетов с утра до вечера, да еще и ночь прихватываю. Вот тебе еще сюжет: вчера нанял мужиков сделать помойку. Содрали много, сделали кое-как. Да еще закончить тем, что они напиваются и засыпают у помойки. Интересно?
— Вообще-то смешно, — ответил он. — Но разве они у помойки ночевали?
— Это для рассказа. Имею же я право на домысел. Чтоб впечатлило. Чтоб пить перестали. Перестанут?
— Нет, — тут же ответил мужчина. — Прочитают, поржут — и опять.
— Еще и скажут: плати, без нас бы не написал. Ну, давай, — я протянул руку. — В церковь приходи, там начали молебен служить, акафист читать иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша». По пятницам.
— И поможет?
— Будешь верить — поможет.
Мы расстались. Накрапывал дождик. Я подумал, что сегодня снова не будет видно луны, хотя полнолуние. Тучи. Опять будет тоскливый, долгий вечер. Опять в селе будет темно, будто оно боится бомбежек и выключает освещение. Мы жили при керосиновых лампах, и то было светлее. То есть безопаснее. Но что я опять ною? Наше нытье — главная радость нашим врагам.
Я обнаружил себя стоящим босиком на главной улице родного села. Мне навстречу двигались трое: двое мужчин вели под руки женщину, насквозь промокшую. Я узнал в ней ту, что просила у продавщицы взаймы и обещала утопиться, если не отдаст. Взгляд женщины был каким-то диковатым и испуганным.
Они остановились.
— Она что, в воду упала? — спросил я.
— Кабы упала, — ответил тот, что был повыше. — Сама сиганула. Мы сидим, пришли отдохнуть. Как раз у часовни, — вы ж видели, у нас новая часовня. Сидим. Она мимо — шасть. Так решительно, прямо деловая. Рыбу, думаем, что ли, ловить? А она — хоп! И булькнула. Как была. Вишь — русалка.
Раздался удар колокола к вечерней службе. Я перекрестился. Женщина подняла на меня глаза.
— Вытащили, — продолжал он рассказывать. — Говорю: Вить, давай подальше от воды отведем, а то опять надумает, а нас не будет. Другие не дураки бесплатно нырять.
— Ко-ло-кол, — сказала вдруг женщина с усилием, как говорят дети, заучивая новое слово.
— Да, — сказал я, — ко всенощной. Завтра воскресенье.
— Цер-ковь, — сказала она, деля слово пополам. Она вырвала вдруг свои руки из рук мужчин. Оказалось, что она может стоять сама. — Идем в церковь! — решительно сказала она мне. — Идем! Пусть меня окрестят. Я некрещеная. Будешь у меня крестным! Будешь?
— От этого нельзя отказываться, — сказал я. — Но надо же подготовиться. Очнись, протрезвись, в баню сходи. Давай в следующее воскресенье.
— В воскресенье, — повторила она, — в воскресенье. — И отошла от нас.
— Ну, — сказал я, — спасибо, спасли. Теперь вам еще самих себя спасти. Идемте на службу. — Они как-то засмущались, запереступали ногами. — Ладно, что вы — дети, вас уговаривать. Прижмет, сами прибежите. Так ведь?
— А как же, — отвечали они, — это уж вот именно, что точно прижмет. Это уж да, а ты как думал?
— Да так и думал, — ответил я и заторопился. Сегодня служили молебен с акафистом Пресвятой Троице. Впереди было и помазание освященным маслом, и окропление святой водой, и молитвы. И эта молитва, которая всегда звучит во мне в тяжелые дни и часы: «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет».
«Нельзя, нельзя, — думал я, — нельзя сильно любить жизнь. Любая вспышка гаснет. Любая жизнь кончается. Надо любить вечность. Наше тело смертно, оно исчезнет. А душа вечна, надо спасать душу для вечной жизни».
Но как же не любить жизнь, когда она так магнитна во всем? Ведь это именно она тянула меня к себе, когда звала на Красную гору и к плотине. Я шел в детство, на блеск костра на песке, на свет ромашек, на тихое голубое свечение васильков во ржи, надеялся услышать висящее меж землей и облаками серебряное горлышко жаворонка, шел оживить в себе самого себя, чистого и радостного, цеплялся за прошлое, извиняя себя, теперешнего, нахватавшего на душу грехов, и как хорошо, и как целебно вылечила меня исчезнувшая плотина. Так и мы исчезнем. А память о нас — это то, что мы заработаем в земной жизни. Мы все были достойны земного счастья, мы сами его загубили. Кто нас заставлял грешить: пить, курить, материться, кто нас заставлял подражать чужому образу жизни, кто из нас спасал землю от заражения, воду и воздух, кто сражался с бесами, вползшими в каждый дом через цветное стекло, кто? Все возмущались на радость тем же бесам, да все думали, что кто-то нас защитит. Кто? Правительство? Ерунда. Их в каждой эпохе по пять, по десять. Деньги? Но где деньги, там и кровь.
Мы слабы, и безсильны, и безоружны. И не стыдно в этом признаться. Наше спасение только в уповании на Господа. Только. Все остальное перепробовано. Из милосердия к нам, зная нашу слабость, Он выпускает нас на землю на крохотное время и опять забирает к Себе.
«Господи, услыши молитву мою! Не отвержи меня в день скорби, когда воззову к Тебе. Господи, услыши молитву мою!»
litresp.ru
|
Мелочь Почти ничего не значит нынешняя мелочь. Денежная, имею в виду. Помню из детства утверждение дедушки, что гибель России началась с момента изъятия из обращения монетки достоинством в полкопейки. Полкопейки – это грош, он остался только в пословицах, которые тоже умирают. "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Алтын – сколько копеек? Три копейки. Правильно. А две копейки? Это семитка. А гривенник – это десять копеек. А пятиалтынный – это пятнадцать. Двугривенный – двадцать, а полтинник и вовсе пятьдесят. Наконец, рубль – это целковый. Копейка рубль бережет – так говорили. Копейка – это кусок хлеба, коробка спичек, стакан газировки, на рубль в студенческие жили по три дня: хлеб ржаной, буханка – девять копеек, картошки килограмм – десять копеек, кило макарон – четырнадцать, остальное соответственно. Совершенно сознательно я вспоминаю цены детства и юности, чтобы хоть как-то напомнить нынешним молодым о ценах, которых достигло Отечество всего за пятнадцать лет после самой страшной войны в истории. Почему, спросим, росло благоденствие народа? Ответ самый простой: не воровали. Были и гусинские, и березовские, и разные рыжие прохиндеи, но условий для воровства им особо не создавалось. Боялись, попросту сказать. Но что мы все о них, их и без нас Господь накажет, надо больше с себя спрашивать. А чего вдруг я стал про мелочь размышлять? Я шел в зимний день без перчаток и грел руки в карманах куртки. А в кармане мелочь, вот и тряс ею. Еще вспоминал, как до сих пор у меня в Вятке продавщицы в сельских магазинах сдают сдачу с точностью до копейки, и я заметил, что их обижает наша московская хамская привычка не брать на сдачу медяшки. И еще меня выучил уважать нынешние монетки один мужчина, Александр Григорьевич. Мы шли с ним по улице, он нагнулся, поднял копейку и объяснил: "Ты же видишь – изображение Георгия Победоносца, как же его оставить под ногами, еще кто наступит". С тех пор я поднимаю даже мелкие монеты. Подними, донеси их до ближайшего нищего, идти далеко не придется, и отдай ему. А у него набежит монетка к монетке на хлеб, на соль. Шел такой густой свежий снег, что белые стены домов не ограничивали пространство, я чуть не въехал в высокую белую стену Сретенского монастыря и пошел вдоль нее. Увидел у ворот занесенную снегом нищую. Да нищую ли? Очень бойка она мне показалась, но правая рука, трясущая в кармане мелочь, захватила ее в горсть и извлекла на свет божий. Я решил подать монетку, всегда вспоминая маму, учившую, что подавать надо, но понемногу. "Большой милостыней не спасешься, лучше чаще подавать. Нищий настоящий и куску хлеба рад, а тут деньги". На ладони правой руки лежала грудка беленьких монеток, а левой рукой я стал эту грудку ворошить, ища монету желтенькую – я решил подать полтинничек. То есть правая рука знала, что делает левая. И что мне было дать рубль, нет, видимо, пожалел. А рубль-то как раз у меня из ладони и выскользнул и упал в густой снег. Где там его было искать. Я дал нищей пятьдесят копеек и подумал, что хорошо меня Господь вразумил за жадность. Мало того, тут еще и вот что случилось. Нищая достала из-под шали бумажку, это был грязно-зеленый доллар, и спросила: – Тут шли не наши, эту бумажку дали. Куда я с ней? – В обменный пункт, так дадут тридцать рублей. – Кто меня туда пустит! Возьмите вы ее себе. – Не хочу, – ответил я, – я брезгую долларами, прикоснусь, потом руки не отмыть, отдайте кому-нибудь. Или в церковь. Нет, – тут же прервал я себя, представив, как эта заокеанская "зелень" будет лежать в церковной кружке. – Если мы ее еще и в церковь пустим, то и вовсе беда. Выкинь ее, матушка, или порви, без нее проживем. А весной тут рубль мой из-под снега вытает, я рубль уронил, тут он как в Сбербанке около монастыря полежит. И опять я шел внутри московской метели, но как-то уже легче думалось о жизни. Думал: конечно, я плохой пророк в своем Отечестве, но в чужом хороший. Скоро, вот увидите, загремит с печки доллар, загремит. Говорю без злорадства, просто знаю. Еще думал: теперешнее ворье страшится Господа и Его слуг, например святого великомученика Георгия. Они же даже его изображение боятся в руки взять. Вот попросить их вывернуть карманы, в них наверняка не будет мелочи, только зеленая слизь. А мы... а мы по-прежнему будем считать копейки. Ничего страшного. Деньги счет любят, копейка рубль бережет. Вот и возьми нас за грош. |
rulibs.com
Владимир Крупин - Босиком по небу (Крупинки) Сборник рассказов
Произведения Владимира Крупина неизменно вызывают интерес у читателей. Писатель органично сочетает проблематику "светской" жизни с православной этикой. Его герои - люди ищущие, страдающие, трудно постигающие своё предназначение. Писатель убеждён, что путь к полноценному, гармоничному существованию пролегает через любовь, добро и обретение истинной веры. Каждый из героев приходит к этому своим собственным, порой весьма извилистым и причудливым путём.
Содержание:
Владимир Николаевич КрупинБОСИКОМ ПО НЕБУ (Крупинки)
Об авторе
КРУПИН Владимир Николаевич родился 7 сентября 1941 года в селе Кильмезь Кировской области. В 15-летнем возрасте закончил школу. Отслужив в ракетных войсках, поступил на литературный факультет Московского облпединститута. Работал редактором на телевидении, в книжном издательстве. В 1974 году выпустил первую книгу "Зёрна", за которую был принят в Союз писателей, после чего ушел на творческую работу. В 1989 году возглавил журнал "Москва". Спустя три года перешел на преподавательскую работу в Московские духовные школы. До распада Союза был секретарем СП СССР, в настоящее время - секретарь Правления Союза писателей России.
Автор повестей "Великорецкая купель", "Живая вода", "Во всю Ивановскую", "Ямщицкая повесть", "Слава Богу за всё", "На днях или раньше" и др. Его последние произведения тесно связаны с жизнью Церкви: "Православная азбука", "Русские святые", "Детский церковный календарь", "Освящение престола", "Ловцы человеков".
Произведения Владимира Крупина неизменно вызывают интерес у читателей. Писатель органично сочетает проблематику "светской" жизни с православной этикой. Его герои - люди ищущие, страдающие, трудно постигающие своё предназначение. Писатель убеждён, что путь к полноценному, гармоничному существованию пролегает через любовь, добро и обретение истинной веры. Каждый из героев приходит к этому своим собственным, порой весьма извилистым и причудливым путём.
Деточки
- А мы колядовать собираемся, - сообщил мне накануне Рождества соседский мальчик. - В прошлом году ходили, целую сумку набрали, и деньги даже давали.
- А что вы говорите, когда славите?
Мальчик задумался.
- Ну, в общем наряжаемся: Ромка - девчонкой, Мишка - ужастиком. Я так намазываюсь: щеки и нос красным, а глаза черным.
- Да, - согласился я, - это страшновато. Попробуй тут не положи в мешок… Мы тоже ходили в детстве. Я кое-что помню. Вы придите ко мне, что-нибудь разучим.
Мальчик умчался и мгновенно вернулся с друзьями. Они сказали, что говорят так: "Славите, славите, вы меня не знаете. Отворяйте сундучки, доставайте пятачки и конфеточки".
- А дальше? - спрашиваю.
- А дальше нам что-нибудь дадут, и мы идем дальше.
- Так зачем же вы тогда приходили, разве только за конфетами? Вы идете на Рождество, вы несете весть о рождении Сына Божьего. Вот главное в колядках. Давайте так… Вот вы говорите свои стихи и добавляйте после "конфеточек": "Если будет и печенье, то прочтем стихотворенье". Его надо прочесть, если даже и не дадут печенье. Заучите: "В небе звездочки горят, о Христе нам говорят. У людей всех торжество - наступило Рождество". Это же радость сообщить такую весть. Вы - вестники счастья, спасения… Я раз видел вас в церкви. Как там поют? Заучили? "Слава в вышних Богу…"
Мальчики подхватили:
- На земли мир, в человецех благоволение!
- Вот. И тропарь Рождеству… Знаете наизусть?
- Это Данила знает и Георгий, они батюшке помогают. Они тоже будут ходить.
Мои новые знакомые убежали, и когда вечером раздался бодрый стук в окно, я понял, что это они. Я был готов к встрече, сходил днем за пряниками, конфетами, печеньем. Пришли не только они, а целая группа, человек десять, - со звездой, пением коляды: "Коляда, коляда, открывайте ворота". Меня осыпали горстью зерна и дружно запели: "Христос раждается, славите. Христос с Небес, срящите. Христос на земли, возноситеся". Кого только не было среди колядочников! Снегурочка с длинной мочальной косой, красавица в кокошнике, мальчик, почему-то в иностранной шляпе, другой мальчик, раскрашенный разнообразно, третий в халате со звездами… Они дружно пропели тропарь: "Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…", а потом пошли хороводом с припевкой: "А мы просо сеяли, сеяли".
Я уж старался вознаградить такое усердие, как вдруг, болезненно охнув, повалилась на пол девчушка с косой. Все они вскрикнули, да так натурально, испуганно, что у меня сердце чуть не оборвалось. Мгновенно стал соображать, у кого из соседей есть телефон, чтобы звонить в больницу. Тут же думал: отчего ей плохо? Или уморилась от голода, или, наоборот, конфет переела…
- Доктора, доктора! - кричали дети. И только когда явился "доктор", важный мальчик с нарисованными на лице очками, я с радостью понял, что все это нарочно. Доктор важно щупал пульс, глядя на часы, разогнулся, помолчал и сокрушенно вздохнул:
- Медицина здесь бессильна.
- Знахаря, знахаря! - закричали девочки.
Пришел и знахарь в зипуне и лаптях. Стал обращаться с больной крайне небрежно: подергал за руки, за ноги. Сказал:
- Народная медицина здесь тоже бессильна.
Вслед за этим они гениально выдержали томительную паузу. Больная лежала, как мертвая.
Потом та девочка, что звала доктора, всплеснула руками:
- Ой, я знаю, знаю! Ее спасут хоровод, танцы и песни!
- И вы с нами, - сказала девочка, - ее же надо оживлять!
Конечно, как я мог не участвовать в оживлении такой красавицы с длинной косой. Мы прошли хороводом, пропели коляду. Я вспомнил давнее свое детство: "Я, малый хлопчик, принес Богу снопчик. Боже, снопчик прими, меня сохрани - и тятю, и маму, и нашу избу, и нашу деревню, и нашу судьбу".
Красавица ожила. Мы выпили лимонада, заели печеньем и пряниками. Вскоре они ушли. Но на прощание заставили спеть девочку, которая стояла в сторонке и молчала. И она, отчаянно стесняясь и тиская в руках варежки, тоненьким голоском запела:
"Я была-ходила в город ВифлеемИ была в вертепе, и видала в нем,Что Христос Спаситель, Царь, Творец и БогРодился во хлеве и лежит убог.И когда я Деве сделала вопрос,Отчего так плачет маленький Христос,Дева мне сказала: "Плачет Он о том,Что Адам и Ева взяты в плен врагомИ что образ Божий, данный их душам,Отдан в поруганье злобнейшим врагам…"
Девочка не допела, вдруг расплакалась и выскочила за дверь.
Мальчики смущенно переминались:
- У нее длинная песня, она еще поет о розах, которые Христос раздал детям, а Себе оставил шипы от роз…
Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скрипя валеночками по рождественскому снегу. А лампадка красная в углу, будто звездочка, сошедшая с небес, пришла и остановилась у святых икон.
profilib.org
Два рассказа. Владимир Крупин
ТАРЗАН И ЖУЧКА
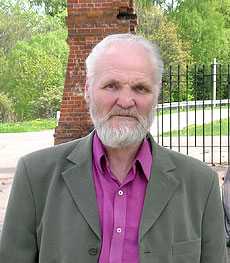 Есть такое выражение: друзья-соперники. Особенно в детстве и отрочестве. То дружат, вместе играют, то чего-то вдруг сорятся, иногда даже враждуют, но друг без друга не могут.
Есть такое выражение: друзья-соперники. Особенно в детстве и отрочестве. То дружат, вместе играют, то чего-то вдруг сорятся, иногда даже враждуют, но друг без друга не могут.
У нас именно такими друзьями-соперниками были соседи Обуховы. У них три сына и у нас. Старший Обухов, Игорь, дружил с моим старшим братом Борисом, средний, Вовка, со мной, а их младший Юрка дружил с нашим Михаилом. У нас многое было общим, особенно собака Жучка, чёрная, приветливая. И они её кормили, и мы. Но она всё-таки была больше в нашем дворе. Везде была с нами, куда бы мы ни отправились: на реку, на луга, в лес за ягодами, за грибами.
Мимо нас ходил на работу тракторист. Он был одинок и как многие тогда вернувшиеся с войны мужчины, крепко выпивал. Фронтовые сто грамм настигали их и в мирной жизни. Однажды только рассказал, что в армии у него была знакомая собака, похожая на Жучку. Её приучали бросаться с привешенной взрывчаткой под танк. Для этого собак специально долго не кормили, а потом они получали пищу под танком, привыкали к этому, к ним привязывали взрывчатку, и во время вражеской танковой атаки выпускали. Под немецким танком та, фронтовая, Жучка и погибла. Мужчина пытался погладить нашу Жучку, но она пьяных не любила и от него отскакивала.
— Несчастный он, — говорила мама. — Жена не дождалась, уехала куда-то с другим. Как его осуждать?
Обуховы были парнишки спортивные. Лучше нас крутились на перекладине, быстрее плавали, резвее бегали. Игорь даже ездил на какие-то соревнования. Вовка очень хорошо играл в шахматы. Спустя время я понял причину этого: они имели время для занятий, так как были обеспечены. И вещами, и едой. Их отец работал в райпотребсоюзе, занимался снабжением населения. А наш отец в бедном лесхозе. Зарплата маленькая, а нас много. Чтобы выжить, мама брала заказы на шитьё. И рубашки нам и платьица сёстрам шила тоже сама. Часто мы засыпали под стрекотанье швейной машинки «Зингер». Для питания приходилось держать корову и поросёнка, и кур, и овечек, и обо всех надо было заботиться. Мы были постоянно привязаны к дому, огороду, а Обуховы, не имея такого домашнего хозяйства, носились по селу, гоняли на велосипедах, пропадали на реке, конечно, тут мышцы разовьются.
Но нельзя даже подумать, что мы завидовали их отцу, нет, наш папа был всех лучше. С ним было так весело общаться, он так много знал. В детстве, в его семье, была библиотека журнала «Нива», и он много читал. Никогда не называл поэтов по фамилии, только по имени и отчеству: Александр Сергеевич, Михаил Юрьевич, Николай Алексеевич, читал наизусть с нами Сурикова, Никитина, Тютчева, Кольцова. Жаль, конечно, что такая радость была редкой, он всё время был в лесу. Рассказывал нам о своей работе, и, конечно, мы, как и он, считали, что она самая важная: от отца мы знали про лесопосадки, лесовосстановление, санитарные рубки, рубки ухода, наблюдение за водоохранной зоной по берегам рек, противопожарные просеки, борьба с разными паразитами хвойных и лиственных пород. Мы знали: у сосны корни морковкой, а у ели разлапистые, и что у ели парусность кроны большая, поэтому ель чаще подвергается ветровалу. Вот какие слова знали. Главная забота отца была — лесопитомники. В них мы тоже работали, пропалывая рядочки крохотных сосенок размером с мизинчик и меньше. Конечно, сосенки наши уже выросли, безжалостно спилены под корень, да и увезены в дальние и ближние страны. Построены из них, может быть, дачи для каких-нибудь нынешних буржуев. Сердце болит глядеть на пеньки, остающиеся от лесов моей вятской родины.
Хотя Обуховы физически нас опережали, но, так сказать, умственно мы были впереди. Однажды мама была на родительском собрании и её просили выступить, рассказать, как так она нас воспитывает, что мы все, пятеро учеников, у нас ещё и сёстры были, хорошо учимся, участвуем в самодеятельности, дисциплинированы. Мама рассказывала:
— А чего я скажу? Я стесняюсь, не могу ни ступить, ни молвить. Ой, говорю, не знаю, не знаю, они сами друг дружку тянут.
И вот теперь, многие годы спустя, я понимаю, что мама высказала главное достоинство многодетных семей, в них старшие дети тянули за собой младших. Читая биографии знаменитостей, видишь, что они, как правило, вырастали среди братьев и сестёр.
Но ведь вот и у Обуховых семья была многодетной, а учились плохо. Это и мать их признавала. Она выговорила нашей маме после родительского собрания:
— Эх ты, встала и сказать ничего не могла. Ну, уж если б меня спросили, я бы так отрапортовала! От зубов бы отскакивало. Да вот, короеды, на одних тройках ездят.
А самое-самое главное, что мама молилась за нас. Всегда говорила: «Слава Богу, идите с Богом, Бог с тобой, Бога не забывайте». Это у неё само говорилось во всех случаях жизни. Всегда у нас икона была.
В одно из воскресений мама и папа пошли на базар. С ними увязалась младшая наша сестричка, старшая осталась дома и нами командовала. Родители возвращаются и — вот радость — несут на руках маленького беленького козлёнка. Оказывается, его увидела сестрёнка и вцепилась в родителей, и не отцеплялась, пока козлёнка не купили.
Как же мы его полюбили! Он такой оказался весёлый, прыгучий, так забавно бодался маленькими рожками, так скакал по двору, что у нас не было лучшей радости как играть с ним. Перед нашей дворняжкой Жучкой нам даже было неудобно. Но Жучка понимала нас. Она и сама бегала с нами и козлёнком и по двору, а вскоре уже и по улице.
Но как же было назвать козлёнка? Тогда всех сводил с ума трофейный немецкий фильм «Тарзан». У нас даже игры были, которые так и называли: «Играть в Тарзана». Играть в Тарзана значило многое: прыгать с высокого обрыва в реку, залезать на деревья, пикировать с них, ухватясь за вершину и сгибая её. Конечно, и бегать и бороться. И мы единогласно назвали козлёнка Тарзаном.
Тарзан подрастал и вместе с ним рос его аппетит. Рвём поросёнку траву и уж, конечно, Тарзанчика не забываем, ему что повкуснее: листья капусты, свёклы, молочай — это такая сочная трава, когда её сломишь, то на оставшемся стебельке проступает белое молочко. И вот, накормим любимца, наиграемся с ним, пойдём сами ужинать, а потом выходим: где Тарзан? А он отправился в автономное путешествие по чужим огородам. Этого делать было нельзя: мы его отлавливали, даже шлёпали по белой крепкой спинке, он осознавал свой проступок, на шлепки не обижался, а назавтра снова брался за своё.
Конечно, такому нашему счастью, тому, что у нас есть козлёнок, завидовали Обуховы. Они тоже играли с Тарзаном, бодались с ним, бегали наперегонки. Но, к нашему огромному огорчению, они не стали звать его Тарзаном. Наименовали, страшно вымолвить, Скелетом. Честно говоря, козлёнок подходил под такое прозвище. Как мы его ни кормили, он вырастал худющим, рёбра даже сквозь кожу проступали. Да ещё на своих длинных ножках. «Растёт, — говорила мама, — выбегивается. Ничего, к зиме запрём в хлев, наберёт весу».
А узнали мы об этом имени так: однажды принесли Тарзану травы, он хватал её крепкими зубами и быстро пережёвывал. И вдруг Обуховы закричали со своего двора:
— Скелет, Скелет!
И наш Тарзан вскинул морду, торопливо прислушался и… побежал к Обуховым. Ещё бы, они подманивали его настоящим хлебом, которого у нас и на самих не хватало.
Мы просто были убиты. Сестрёнка плакала. Ушли домой и там молчали. То есть они его прикормили. Вечером мы вышли во двор. Тарзан прыгал и привлекал к себе внимание. «Изменник! — упрекали мы его, — предатель! За кусок хлеба! Смотри на Жучку. Её ж они тоже мясом кормят, она же от нас не убегает».
Конечно, мы поссорились с Обуховыми. Ещё бы — пережить такое обидное имя. Конечно, на козлёнке это не отразилось, мы по-прежнему его кормили. Но Обуховы, как собаки травёжные, так мы их обозвали, звали козлёнка Скелетом и он бежал к ним. За куском хлеба.
— Пусть, — говорила мама, — пусть подкармливают.
— Так они же его Скелетом называют!
— Но он же этого не знает. А вы потерпите.
Ссора продолжалась долго. Они уж даже и дразнить нас перестали таким образом. Да и нам было иногда скучновато без друзей. Когда козлёнка зарезали, а это ужасное, но неизбежное событие должно было случиться, то мы вначале, сговорясь, отказались есть его мясо. Но — голод не тётка — потом ели. Папа нам, мальчишкам, подарил для игры косточки от позвоночника. Почему-то они назывались «панки», а сама игра называлась в «бабки». Тогдашние бабки были не чета нынешним: весёлые, азартные главное, безкорыстные.
А дальше, дальше тяжело рассказывать, но надо. У соседа-фронтовика что-то случилось на работе, он прибежал домой, схватил охотничье ружьё и выскочил на улицу. И на него залаяла Жучка. Может, она хотела его остановить? Тем более не любила пьяных. Она залаяла на него, а он в неё выстрелил. Её страшный, предсмертный, визг я помню всю жизнь.
Мы побежали на этот визг, но мама перегородила нам дорогу и грозно, как никогда раньше, приказала сидеть дома. Потом мы узнали, что она успела вырвать из рук мужчины ружьё, он наставлял его на себя, хотел застрелиться. Упал на землю, рыдал, и просил прощения у мёртвой Жучки.
А ссора, это мы уже гораздо позднее узнали, была от того, что начальник заставлял нашего соседа вспахать ему личную одворицу. Не попросил, приказал в грубой форме. А начальник этот не воевал. Сосед отказался и отказался тоже резко: «Я на фронте пахал, в колхозе всю жизнь пахал, ещё и на тебя пахать буду? Тварь ты тыловая!» Тут они и разодрались.
Вот такие были у нас, в нашем детстве, козлёнок Тарзан и собака Жучка. Он беленький, а она чёрная. Такие весёлые, с ними было так интересно. Казалось, что они всегда будут с нами.
Говорят, у животных нет души, она умирает вместе с ними, но мы-то, со своей безсмертной душой, помним своих четвероногих друзей. И как не помнить: они помогали нам стать лучше. Они были в нашей жизни и остались в ней.
ДОСТАВКА ПИЦЦЫ
Внуки звонят дедушке:
— Ты придёшь сегодня? Приходи, мы кино сняли. Придёшь?
— Ещё бы! — восклицает дедушка.
— Ой, не знаю, что из вас вырастет, — говорит он придя к внукам, — всё-то вы знаете, айпады всякие, айфоны, ещё и скайпы, ничем вас не удивишь. А меня вы всё время удивляете. Теперь вот кино. Сколько серий?
— Да ты что дедушка! Пятьдесят секунд! Называется «Доставка пиццы». На английском языке. Но ты всё поймёшь. Мы будем интерпреды, переведём. Садись к ноутбуку.
Внуки, предчувствуя торжество, аж подпрыгивают. Включают кино. Громкая музыка, заставка, название. Всё как у людей. Красивая девочка в кадре звонит по мобильнику («Она заказывает пиццу», — объясняют внуки), мальчик принимает заказ, хватает плоскую коробку и устремляется к выходу. На улице вдруг начинается по нему стрельба, кто-то даже кидает гранаты. Взрывы. Мальчик бежит зигзагами, падает, вскакивает, видна большая ссадина на лбу и щеке, разорвана куртка. Но он молодец — добирается до цели. Отдаёт пиццу и ждёт. Девочка недоуменно смотрит на него. Он что-то говорит. («Он говорит, чтобы она заплатила»). Тут девица ни с того, ни с сего хватает нож со стола, видимо, заранее готовый, и со словами: «Вот тебе плата!», — убивает мальчишку. Тот шатается вправо-влево и падает к её ногам. Заключительные титры, фамилии актёров, заставка. Всё.
— Дедушка, здОрово? — спрашивают внуки. — ЗдОрово? Круто, да? Как она его мочканула, как лоха педального. Чик и всё!
— Я гримировала, — объясняет внучка. — Маминой губной помадой кровь рисовала. Здорово? Похоже, да? А он как клёво падал, да?
— Сколько дублей было, — вспоминает внук.
— Так за что она его убила? — не понимает дедушка. — Сама пиццу заказывала, он принёс, и его за это убивать?
— Дедушка, ты не понимаешь, это смешно, это круто, — объясняют внуки. — Мы ребятам показывали, говорят: офигительно. Взрывы какие, да? Просили три раза крутить. Такая ржачка была.
— Снято здорово, музыка подобрана, актёры хорошие, взрывы всякие, всё впечатляет. Но за что она его убила? Не хотела за пиццу платить?
— Дедушка, это просто так.
— Просто так убила?
— Дедушка, этот чувак типа того, что киллер. Она его типа того, что вычислила. Он притворялся доставщиком пиццы.
— Но это же непонятно мне, зрителю. Зритель видит, что она этого типа, типа того, что замочила.
— Дедушка, ты не всё знаешь. Он узнавал, где богатые живут и хотел срубить бабла, — объясняет внучка, а внук добавляет:
— А тут-то, ха-ха, вот в чём фишка, прикольчик-то в чём, а?
— В чём? — невольно спрашивает дедушка.
— Обломчик у него. Она его просекла.
— В чём просекла? Расколола, что ли?
— Ну и ну, дедушка, не понимаешь. Тут мы тебе похлопаем.
— Хлопайте. Сейчас уже и покойникам хлопают.
— Мы маме и папе показывали, они смеялись. Дедушка, ты не думай, ему падать было не больно, одеяло подстилали.
Дедушка возвращается домой. Вечером звонит внукам и просит к телефону маму или папу. И говорит им, что фильм ужасный.
— Убила за три порции пиццы.
— Ну что вы так серьёзно? Они играют, — говорит мама внуков.
— Да ты просто придираешься, — говорит папа внуков, сын дедушки. — Смотри, какой монтаж, ты бы их похвалил, как они в малое время столько вогнали. Тебя же держало внимание к экрану?
— До сих пор держит, — говорит дедушка. Он слышит, как невестка говорит мужу: «Объясни, что это домашнее задание учительницы английского — снять видео на языке. Какая разница, какой сюжет»?
— Я слышу, говорит дедушка, — пока не глухой. Не надо объяснять. Всё-таки спрошу преподавательницу.
И в самом деле на следующий день спрашивает. Но и преподавательница его не понимает.
— Это же шутка, ролевые игры, помощь в изучении иностранного языка при помощи современной видеотехники. Такой приём сейчас рекомендуется во всех методичках. Такой гаджет.
По её мнению такое умное слово должно его убедить.
— Гаджет-то гаджет, — отвечает упрямый дедушка, — но убивать, да ещё и играючи?
— Да, игра, но это игра в предложенной ситуации. Все же понимают, что это не всерьёз. Как вы не поймёте? Догоняйте. Конечно, вам такое не в кайф, но это ещё не факт, чтобы отвергать методику освоения иностранного.
— Я понял одно — показано убийство, и над этим предлагается смеяться и заодно учить английский.
— Да вы посмотрите, что показывают по телевизору. Дети же видят.
— И учатся подражать?
— Ну, что вы. Ваши внуки очень талантливы. У них всё окейно.
— То есть, у меня окейные внуки?
— Можно и так сказать. Их фильм в группе приняли на ура.
— Талантливо сняли немотивированное убийство?
— А вы посмотрите под другим углом зрения.
— Под каким?
— Помощь в изучении языка. Сейчас же без английского никуда.
— Апостол Павел называл знание иностранных языков самым низким знанием.
— Ну это для вас он авторитет, а сейчас другое время.
— Ну, а что ж мы совсем заамериканились? У школы одна дама говорит другой: «У меня чилдренята засикосели», — то есть дети заболели?
— Ну да, что тут непонятного?
Дедушка идёт домой и горестно думает: она смотрела на меня как на тупого совка. Что ей скажешь, если апостол для неё не авторитет. Да-а, за сутки пять человек сказали, что я ничего не понимаю. Дожили — убийство превращается в забаву. Но это о н и м е н я н е п о н и м а ю т. Как раз я-то их понимаю. Они подражают взрослым, вот и всё. А взрослые киношники снимают кино, которое действует на нервы, а не на душу. Оно сюжетно, держит в напряжении, и оно калечит душу. Жизнь представляется полной драк, разборок, подозрений, погони за богатством. А сколько нечистой силы, всякой бесовщины, похабщины, пошлости, ползает по экранам. Прошлое России изображается сплошь в крови, в лагерях, убийствах, нищете, сплошная лапотность. Как будто не Россия спасала и спасает весь мир. Эта телекиношная чернота специально, чтоб людей развратить и оттянуть от Бога. А телекиношникам что, «пиарятся, срубают бабло, делают бабки». Бедные вы мои, думает дедушка о любимых внуках, как ещё не скоро вы всё это поймёте.
В этот же день он снова у них. Внуки уже знают о его разговорах и с родителями и с учительницей. Они для внуков авторитеты, а дедушка просто отстал от жизни. Он хороший, дедушка, но просто чего-то не понимает, не въезжает.
— Милые мои, — говорит дедушка, — я вас очень люблю, очень. Больше жизни. Но, скажите, вы будете на таких фильмах воспитывать своих детей?
— Да этот фильм уже устареет, мы другое снимем.
— «Доставка пиццы марсианам»?
Внуки смеются.
— А разговоры какие у вас: взять это клёво. Вы что, про рыбалку снимаете, клюёт — не клюёт? И эти офигительно, мочканула, лохи педальные, всякие типа чуваки, всё это круто, да? И этот ваш «блин».
— Дедушка, это коротко, это один слог. А говорить: ле-пёш-ка — целых три слога. Это тупо.
— Да вы же русские! Величайший язык! Самый богатый! Какое клёво, какое круто, когда можно сказать: прекрасно, восхитительно, превосходно, превозносительно, необыкновенно, несравнимо, единственно, неподражаемо, удивительно, замечательно, безподобно… А у вас клёво да круто, а? Какая куцая тут работа мысли. Ведь чем больше у человека слов, тем богаче у него мышление. А у вас на всё готовые штампы, два-три выражения. Такая ваша фигня, как вы говорите, только для куклы Барби. Вы, что, и при учительнице так говорите? И она не поправляет?
— Бывает. Она говорит: «Смех без причины…», — а мы знаем, что она дальше скажет: «признак дурачины» и хором:… — признак хорошего настроения! Дедушка, а Барби же американка реально.
— Ну и пусть по своей фене ботает. А вы? Значит, на уроке у вас чистота русской речи, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Тютчев, а на перемене и дома эта грязная словесная пыль. Вы хотите, чтоб вас, кроме вас, никто не понимал.
— Все же, дедушка, так говорят.
— Я, например, не говорю.
— Так, конечно, ты же дедушка.
— Логично, — вздыхает дедушка. — А знаете, что я вам посоветую. Снимите фильм «Счастливая бабушка». Вот сюжет: бабушка заболела, слабой рукой набирает номер телефона внуков. Ей плохо, ей нужно лекарство. А дедушки рядом нет. Его отсутствие я сыграю, а роль бабушки исполнит любая ваша бабушка. Внуки всё бросают, мчатся за лекарством, тут пригодятся снятые вами взрывы, страхи, препятствия, и собаку можно снять, бежит за ними и лает, и ворона каркает, но храбрые внуки приносят лекарство. Бабушка принимает его и на глазах выздоравливает, молодеет, вы же можете гримировать. Вот бабушка измученная, больная, а вот, после любви и заботы, расцветающая. Что, плохой сюжет? В вашей «Доставке пиццы» смерть, тут спасение, а? Вот подумайте.
Но ни до чего внуки не успели додуматься, потому что бабушка в самом деле заболела. И об этом им по телефону сказал дедушка. И внуки сразу приехали к ней. Бабушка была очень рада. И вскоре выздоровела.
— Вот об этом вы и сняли бы фильм, — сказал дедушка.
— Ну, дедушка, это не сюжет. Чего интересного? Ты позвонил, сказал про бабушку, мы приехали, вот и всё, чего тут особенного?
— Как чего особенного? Вы принесли радость. Господь сказал: «Любите друг друга», любите, а не убивайте. Разве девочка, которая убивает, может кого-то любить? А тут фильм о любви.
— Смотреть такой фильм будет неинтересно.
Дедушка умолкает, думает:
— Хорошо. А если так? Вот она замахивается, он перехватывает руку, кричит: «Ты что, с ума сошла?» Она говорит: «Мне сэмэска от подруги пришла: тебя убьёт тот, кто принесёт пиццу». Это у её подруги такой чёрный юмор. Но подруга тут же наказана: выбегает из подъезда и шлёпается в грязь в новом дорогом костюмчике. Это возмездие за грех.
Тут в комнату вошла мама внуков и поставила на стол всеми любимый яблочный пирог.
— Вот вам и заключительный кадр — любимая мама награждает внуков за их доброе сердце.
Сидели и пили чай. Хорошие внуки и хороший дедушка. Любящие друг друга, и всё менее понимающие друг друга.
www.odigitria.by
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Пример видео 3 Пример видео 3 |  Пример видео 2 Пример видео 2 |  Пример видео 6 Пример видео 6 |  Пример видео 1 Пример видео 1 |  Пример видео 5 Пример видео 5 |  Пример видео 4 Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»