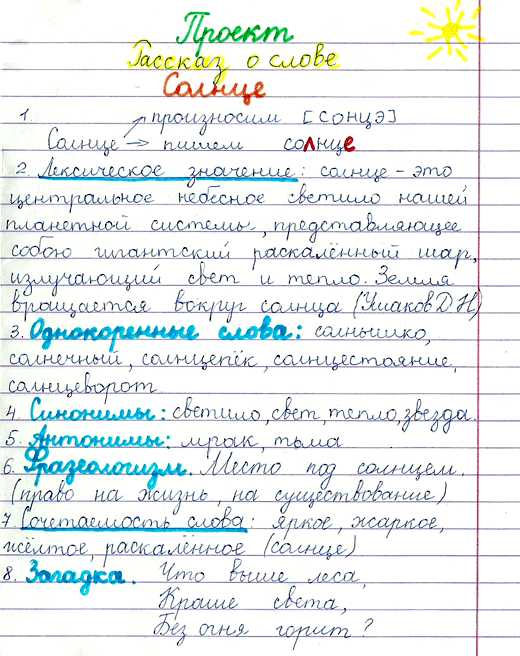Юрий Лошиц - Гончаров. А там нивы с волнующимися разноцветными хлебами синонимичное предложение
Юрий Лошиц - Гончаров - стр 16
ДВА ВОЗРАСТА("Обыкновенная история")
Итак, племянник и дядя. Юноша Александр Адуев и зрелый муж Петр Адуев. Провинциальная расплывчатая мечтательность и столичный практицизм.
Расплывчатость дает о себе знать уже на уровне слов, интонаций.
"- Куда ты едешь, мой друг, зачем? - спросила она наконец тихим голосом.
- Как куда, маменька? в Петербург, затем… затем… чтоб…"
Ну, что "чтоб"? Так и неясно. Ни матери его, ни ему самому.
Зачем действительно уезжать юному Адуеву из своего деревенского эдема? То, о чем пела ему когда-то над колыбелью няня, - "будет ходить в золоте и не знать горя", - все это, можно сказать, осуществилось.
Вот и мать Александра Адуева восклицает: "какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до 500 четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха… А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость божия! Дровец со своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь все это твое, милый сынок… И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи…"
Достаточно беглого топографического обзора вотчины Адуевых - деревни Грачи, - чтобы убедиться, что перед нами и правда, говоря словами старухи Адуевой, "благодать".
"От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое с одной стороны золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой - темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу".
Казалось бы, эти амфитеатром развернувшиеся поля, этот темный лес по горизонту составляют извечную ограду девственного закута, в котором пребывает мечтатель.
Но нет, его зоркие молодые глаза уже разглядели брешь в ограде.
"Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург".
С первых же страниц "Обыкновенной истории" писатель заставляет нас быть предельно внимательными к деталям. К отдельным словам. Почему "благодать", почему "обетованная земля"? Почему дорога вилась "змеей"? Что значат эти заимствования из мифологического, как бы теперь скажем, лексикона? И почему они соседствуют с самыми прозаическими, обыденными, обыкновенными словами и описаниями?
Одно из объяснений: с миром реальных вещей и событий соседствует мир грез юного провинциала. Это ему грезятся "обетованная земля", "громкие подвиги", "колоссальная страсть", "то голос славы, то любви". "Его что-то манило вдаль, но что именно - он не знал".
А как быть с представлениями няни и матери Александра Адуева о райской жизни в Грачах и том страшном, что ей противостоит? Эти представления будут уточняться на протяжении всего романа, они объективизируются, станут независимы от мнения тех, кто их впервые выражает. С мифологической подоплекой романного действия мы еще столкнемся и должны будем соответственно объяснить ее место и роль в произведении Гончарова (впрочем, и не только в этом).
А пока еще несколько слов о мечтательности главного героя "Обыкновенной истории". Эта мечтательность вполне безобидна, в ней нет ничего чрезмерного, патологического. Перед нами - здоровый, естественный юношеский идеализм, который в определенном возрасте навещает всякого или почти всякого. Этот идеализм достаточно поверхностен, он, так сказать, беспартиен и внеконфессионален. Это не философский, а житейский идеализм. Впрочем, в нем есть одно свойство, присущее именно русской действительности первой половины XIX века. По типу своему этот идеализм "александрийский" (имеется в виду вполне определенное общественное настроение, оформившееся в России в годы царствования Александра I). Как писал историк, "то была эпоха мечтаний вообще, эпоха грез и вздохов, видений, провидений и привидений… Для всей эпохи так характерно именно это расторжение ума и сердца, мысли и воображения, - не столько даже безвольность, сколько именно эта безответственность сердца".
Хотя хронологически границы событий в "Обыкновенной истории" (вторая четверть столетия) находятся уже вне александрийской эпохи, запоздалый "александрийский" идеализм Александра Адуева - вещь вполне возможная. Расплывчатые идеи живут дольше, чем эпохи, их порождающие.
Гончаров скуп на детали, изображая юношу-мечтателя, но каждая классически точна: он привлекателен внешне (хотя в облике нет ни одной резкой черты), он, конечно же, пишет стихи (от которых его приятели по университету были просто в восторге). Молодой барин-неженка, избалованный своей маменькой, этот идеалист - уже по первой главе видно - далеко не идеальный герой. И в то же время никаких серьезных претензий предъявить ему пока нельзя. Его мечтания невинны и чисты, дай бог, чтобы каждый юноша в этом возрасте умел хотя бы так мечтать. К Александру Адуеву вполне подошли бы пушкинские слова "блажен, кто смолоду был молод", и мы не ошибемся, если скажем, что Александр Адуев есть отчасти ироническое, а отчасти добродушное воспоминание Ивана Гончарова о своих "младых летах".
Итак, автор избрал самое традиционное и безыскусное начало романного действия: молодой герой попадает в незнакомое для него место - в огромный город. Первые ошеломления: "Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он с час простоял перед Медным всадником, но не с горьким упреком в душе, как бедный Евгений, а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания - и глаза его засверкали".
И первые разочарования: "Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные кирпичные бока домов… и сравнил с тем, что видел назад тому две недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно".
"Он посмотрел на домы - и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другую… Заглянешь направо, налево - всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, все одно да одно… нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, - кажется, и мысли и чувства людские также заперты".
Вот какой она оказалась - обетованная земля. Самая первая из грез мечтателя разбивается о мертвенную каменную громаду города.
Под стать этой громаде оказывается и родственник юного Александра - Петр Адуев. Даже имя у него каменное. "Он был не стар, а что называется "мужчина в самой поре" - между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих летах, не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже".
При первом же появлении Петра Адуева на страницах романа этот образ, впрочем, как и образ Адуева-младшего, начинает как-то странно двоиться в читательском восприятии. То проступает в дяде что-то серо-каменное, бездушное, - "намеревался застраховать свою жизнь подороже". То тут же, рядом, заявит о себе какая-то симпатичная черта во внешности, в поведении, а потом и в характере ума, остроумия: "…с ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют bel homme"[2].Читатель ищет возможности настроиться на какой-то один, ведущий тон в отношении к этому персонажу, но романист, кажется, нарочно задался целью не помочь, а помешать ему в этом.
Как будто образ постепенно высветляется: "В лице замечалась также сдержанность, т. е. уменье владеть собою…" Но тут же - "не давать лицу быть зеркалом души". Всегда ли, думается, это хорошо: так жестко следить за выражением своего лица?
Но вот новая корректировка портрета: "Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным: нет, оно было только покойно". А через несколько строк - очередной резко диссонирующий штрих. Выслушивая слугу, Петр Иванович "немного навострил уши". Что-то есть физиологически неприятное в этой детали. Так и видится мелкое хищное движение ушей.
И с нагрянувшим нежданно родственником видеться не желает, причем опускается до грубой лжи:
"- Скажи этому господину, как придет, что я, вставши, тотчас уехал на завод и ворочусь через три месяца".
Впрочем, приступ эгоизма, кажется, проходит, Петру Адуеву становится несколько совестно за свою холодность, и он велят принять племянника.
Образ, как видим, далеко не прост, не однозначен. Доминирует некоторая рассудочная скованность, подобранность, сухость, но и голос сердца иногда все же отчетлив.
Именно Петру Адуеву предстоит в романе нанести, по словам Белинского, "страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму" Адуева-младшего. Любопытно, что критику романтизма столичный дядя поневоле начинает с… самокритики. Читая среди писем, привезенных племянником, послание некоей Марьи Горбатовой, он хмурится и досадует по поводу своих давнишних, юношеских поступков, о которых напомнила ему эта "старая дева": зачем-то лазил в озеро, срывал s дарил ей "желтый цветок", и она тот цветок, оказывается, до сих пор хранит в засушенном виде в книжке; зачем-то вытащил у нее из комода какую-то дурацкую ленточку на память!…
profilib.net
Читать онлайн "Гончаров" автора Лошиц Юрий Михайлович - RuLit
Вот и мать Александра Адуева восклицает: «какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до 500 четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха… А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость божия! Дровец со своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь все это твое, милый сынок… И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи…»
Достаточно беглого топографического обзора вотчины Адуевых — деревни Грачи, — чтобы убедиться, что перед нами и правда, говоря словами старухи Адуевой, «благодать».
«От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое с одной стороны золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу».
Казалось бы, эти амфитеатром развернувшиеся поля, этот темный лес по горизонту составляют извечную ограду девственного закута, в котором пребывает мечтатель.
Но нет, его зоркие молодые глаза уже разглядели брешь в ограде.
«Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург».
С первых же страниц «Обыкновенной истории» писатель заставляет нас быть предельно внимательными к деталям. К отдельным словам. Почему «благодать», почему «обетованная земля»? Почему дорога вилась «змеей»? Что значат эти заимствования из мифологического, как бы теперь скажем, лексикона? И почему они соседствуют с самыми прозаическими, обыденными, обыкновенными словами и описаниями?
Одно из объяснений: с миром реальных вещей и событий соседствует мир грез юного провинциала. Это ему грезятся «обетованная земля», «громкие подвиги», «колоссальная страсть», «то голос славы, то любви». «Его что-то манило вдаль, но что именно — он не знал».
А как быть с представлениями няни и матери Александра Адуева о райской жизни в Грачах и том страшном, что ей противостоит? Эти представления будут уточняться на протяжении всего романа, они объективизируются, станут независимы от мнения тех, кто их впервые выражает. С мифологической подоплекой романного действия мы еще столкнемся и должны будем соответственно объяснить ее место и роль в произведении Гончарова (впрочем, и не только в этом).
А пока еще несколько слов о мечтательности главного героя «Обыкновенной истории». Эта мечтательность вполне безобидна, в ней нет ничего чрезмерного, патологического. Перед нами — здоровый, естественный юношеский идеализм, который в определенном возрасте навещает всякого или почти всякого. Этот идеализм достаточно поверхностен, он, так сказать, беспартиен и внеконфессионален. Это не философский, а житейский идеализм. Впрочем, в нем есть одно свойство, присущее именно русской действительности первой половины XIX века. По типу своему этот идеализм «александрийский» (имеется в виду вполне определенное общественное настроение, оформившееся в России в годы царствования Александра I). Как писал историк, «то была эпоха мечтаний вообще, эпоха грез и вздохов, видений, провидений и привидений… Для всей эпохи так характерно именно это расторжение ума и сердца, мысли и воображения, — не столько даже безвольность, сколько именно эта безответственность сердца».
Хотя хронологически границы событий в «Обыкновенной истории» (вторая четверть столетия) находятся уже вне александрийской эпохи, запоздалый «александрийский» идеализм Александра Адуева — вещь вполне возможная. Расплывчатые идеи живут дольше, чем эпохи, их порождающие.
Гончаров скуп на детали, изображая юношу-мечтателя, но каждая классически точна: он привлекателен внешне (хотя в облике нет ни одной резкой черты), он, конечно же, пишет стихи (от которых его приятели по университету были просто в восторге). Молодой барин-неженка, избалованный своей маменькой, этот идеалист — уже по первой главе видно — далеко не идеальный герой. И в то же время никаких серьезных претензий предъявить ему пока нельзя. Его мечтания невинны и чисты, дай бог, чтобы каждый юноша в этом возрасте умел хотя бы так мечтать. К Александру Адуеву вполне подошли бы пушкинские слова «блажен, кто смолоду был молод», и мы не ошибемся, если скажем, что Александр Адуев есть отчасти ироническое, а отчасти добродушное воспоминание Ивана Гончарова о своих «младых летах».
www.rulit.me
газета Завтра: Блог: Русь и деревня
«К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу — Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, Памятью деревни я ль не дорожу?»
Сергей Есенин
…Европейский мир – это мегаполис-Метрополис. Так было всегда, а не только в будоражащей и по сей день антиутопии Фрица Ланга. Помните из курса школьной истории – противостояние феодала и города в средневековом социуме? Победил, в конечном зачёте, Город – ремесленно-торговый, каменно-железный, расчётливо-холодный - с его нахальными юристами, сервильными трактирщиками и пикантными хозяйками шляпных мастерских. А вот Россия – страна с деревенскими корнями. Тургеневские девушки в старинных поместьях, есенинские берёзы, шукшинские мужички. Отсюда – склонность к незыблемым традициям и к сохранению своего лица. В городе лицо теряется быстро – идеи, моды, веяния так стремительно меняются, что некогда понять суть - надо постоянно соответствовать. Деревня же потешается над модами и не терпит завиральных идеек. Как, впрочем, чужда ей и любая бессмысленная, сиюминутная суета.
Незабвенный Александр Сергеевич ставит в качестве эпиграфа к одной из глав «Евгения Онегина» фразу из Горация «Orus!...», что в переводе с латыни означает, собственно, «О, деревня!». Villa rustica в Древнем Риме – центр земельного владения, латифундии. Интересно, что популярный этнический стиль в современной моде часто называют «рустикальным». Однако поэт «переводит» нам эту мысль именно, как «О, Русь!». Он намеренно смешивает смыслы и показывает, что Русь и деревня для него синонимы. Как, впрочем, и для Сергея Есенина: «Гой ты, Русь, моя родная, / Хаты — в ризах образа…». Россия – это хаты.Тогда, как «…Город, город, ты в схватке железной / Окрестил нас как падаль и мразь». Но к этой антитезе мы ещё вернёмся, а пока - в московском Музее Василия Тропинина – выставка «Мир русской деревни». Провинциально-сельская жизнь глазами художников. Усадьба и крестьянский дом – это не классово чуждые антиподы, это – части единого целого, как для тургеневского Лаврецкого: «…Русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением…» Русская картина = дворянское гнездо и крестьянская бытность.
…Заходя в зальчик, мы как бы попадаем в дом старинного помещика – по стенам расставлены предметы барской меблировки: высокое зеркало в стиле ампир, столик для дамского рукоделия, парочка рокайльных комодов, а также – пианино, бронзовые часы николаевских времён и хрустальные жирандоли Галантного столетия. Как в настоящем имении – мебель покупалась не за раз у модного мастера Гамбса, а хранилась и копилась от деда к внуку, поэтому в дворянских гнёздах 1850-х годов могли стоять допотопные павловские стулья и ломберные столики времён матушки-Екатерины. Тут же – знакомые по книгам вещи, вроде курительной трубки, чубука, кошелёчков и кисетов, расшитых мелким бисером.
Русская усадебная жизнь – уникальное явление в мировой практике. Указ «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (1762 г.), подписанный ещё Петром III, но, как сие обычно бывает, приписанный Екатерине, позволял аристократам делать выбор между государственной карьерой и - тихой, незаметной жизнью в своём имении. Благо, это совпало с популярным в Париже учением Жан-Жака Руссо, который недвусмысленно провозгласил «Назад, к природе!», чем и вызвал массовый отток европейской молодёжи из тесных и дурно пахнущих городов. Тогда в обиход вошли идиллические романчики-пасторали, а на книжных иллюстрациях и шёлковых веерных экранах всё чаще рисовали нарядных пейзанок да галантных пастухов посреди «нетронутой», не причёсанной садовником, натуры. Следуя моде, даже причудница Мария-Антуанетта доила коров в специально созданной для неё «Швейцарской деревушке». Стоимость этого королевского каприза превышала затраты на армию и дорожные работы...
В России тоже были свои сторонники неспешного «природного» бытия, вроде князя Михаила Щербатова, который в своём программном труде «О повреждении нравов в России» (1774 г.) прямо говорит о том, что мы со всей этой скоропостижной европеизацией-цивилизацией заехали куда-то не туда. И если уж распутная Европа устремилась к свежей, искренней «натуральности» и к парному молоку, то нам-русичам и вовсе сам Бог велел. Везде цитировалась фраза Диоклетиана о капусте, выращивать которую оказалось интереснее и нужнее, чем даже править Римом. Многие аристократы устремились из суетного Петербурга – в деревню-в глушь-в Саратов.
Так в помещичьих усадьбах стала развиваться неповторимая бытовая культура – в ней традиционный уклад приходил в неизбежное столкновение с новомодными (читай – городскими) течениями. Как там у Фонвизина? «Театр представляет комнату, убранную по-деревенски. Бригадир, в сюртуке, ходит и курит табак. Сын его, в дезабилье, кобеняся, пьёт чай…». Смешон и пушкинский англоман Муромский, ибо: «Развёл он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русский не родится». Итак, бытие русского барина – это вечный компромисс между дедовской привычкой и заманчивой новизной, вычитанной в …позапрошлогоднем альманахе. Но, несмотря на все чудачества отдельных англоманов и прочих читательниц Ричардсона, деревня – это хранительница традиций.
«Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины».
В этой связи интересна судьба Лариной-старшей. Франтиха-кокетка, она была выдана замуж за деревенского помещика. Поначалу ей всё казалось сущим адом... Это только в модных книжках жизнь на лоне природы – пасторальная прелесть. Бытьё – сложнее и – скучнее. Что ж Ларина? Выплакав положенное количество слёз, она занялась устроением дома и быта. «Привыкла и довольна стала. / Привычка свыше нам дана: Замена счастию она». Деревня – это привычка, это каждодневное, ежегодное повторение заученных действий, вроде варки варенья в августе или тех самых блинов на масленицу. Здоровая однообразность успокаивает и задаёт умиротворённый ритм существованию. Иной раз это становится началом затягивающей обломовщины: «Тихо и сонно всё в деревне: безмолвные избы отворены настежь; не видно ни души; одни мухи тучами летают и жужжат в духоте». Обломовка – символ барского сибаритства, доведённого до своего логического предела. От размеренной благости – к вечному, всепобеждающему сну. Или вот так, чуть более содержательно:
«Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил».
Крепостной художник – ещё одна уникальная особенность нашей поместной жизни. Сам Василий Тропинин получил вольную только в 1823 году, когда был уже широко известен, как незаурядный портретист. Его имя знали при дворе, а он не только писал портреты и учил живописи господских детей, но и …некоторое время прислуживал за столом своему хозяину. Выставку открывает картина Тропинина «Старик, обстругивающий костыль» (1830-е). Перед нами пожилой крестьянин, полностью погружённый в работу и – в свой мир. Художники конца XVIII – начала XX веков часто идеализировали натуру - изображали селянок на пашне, подобных римским матронам. Тропинин же, напротив, пишет не приглаженного пейзанина, а реального человека. Впрочем, на выставке вы сможете увидеть два очаровательных портрета, созданных заезжими иноземцами – Мауро Гандольфи и Пьером Барбье. Вот тут русские крестьянки изображены в полном соответствии со вкусами эпохи – обе напоминают не то жён античных патрициев, не то ренессансных принцесс... Не отставали от модных стилей и русские живописцы – «Девушка, ставящая свечу перед образом» (1835) Григория Михайлова похожа на всех брюлловских итальянок вместе взятых. Холёное тело и совершенно не рабочие руки красавицы менее всего напоминают о таких «мелочах быта», как жатва или выпекание хлеба.
Крестьянский уклад и народный костюм – всё это долгие века оставалось почти неизменным. Посмотрите на картину Сергея Коровина «К Троице» («На богомолье»), написанную в 1902 году. Вы могли бы определить год или даже век, в котором действуют участники повествования? Скорее всего, нет. Вместе с тем, на дворе начало XX столетия – в моде автомобилизм, дамские платья reform без корсетов, стихи о конце света и – грёзы о коммунистическом будущем. Но в русском деревенском строе – всё так, как и было заведено двести-триста…тысячу лет назад. В Германии или, например, во Франции костюм крестьянина эволюционировал куда как быстрее – в нём то и дело появлялись приметы городских мод. На Руси этот процесс был почти не заметен, разве что на рубеже XIX – XX веков сельские женщины облюбовали яркие, цветастые блузы с широкими рукавами, которые полагалось по праздникам носить с «городской» юбкой. Но это бытовало далеко не во всех губерниях и не во всех крестьянских хозяйствах. Нательные рубахи, как и в старину, по-прежнему обладали сакральной силой, женщина без платка считалась неприлично «простоволосой», и от матери к дочери передавались узоры вышивок, значение которых терялось в языческой праистории.
В деревне хранятся древние легенды и сказки. Здесь знают толк в старославянских символах и праздниках (что характерно, даже в советских колхозах были известны многие древние обычаи и приметы). На выставке мы встречаем знаменитую картину Абрама Архипова «Радуница»(1892-1895) - старинный весенний праздник - день поминовения у славян, оставшийся в обиходе и после принятия Христианства. Кстати, первый сборник стихов Сергея Есенина тоже назывался «Радуница».
«Чую радуницу божью —
Не напрасно я живу,
Поклоняюсь придорожью,
Припадаю на траву».
В деревне – вера в Бога крепче и истовее. Недаром многие стихотворения, картины, мемуарные отрывки, связанные с деревней, повествуют нам и о религиозных праздниках. У Есенина читаем: «Пахнет яблоком и мёдом / По церквам твой кроткий Спас!...». Или у Тургенева:
«Люблю я вечером к деревне подъезжать,Над старой церковью глазами провожатьВорон играющую стаю…»
Заметим, что и крестьянский сын, и пресыщенный барин мыслят в одном направлении. Их ритмы и смыслы идеально созвучны.
Деревня, поместье – традиционный источник вдохновения и место отдохновения для русских писателей и художников. Если проследить историю нашего искусства, то открывается интереснейшая картина – большинство великих имён неразрывно связано с названиями имений (родовых или купленных), дач (этих занятных и тоже чисто русских суррогатов поместий) или просто «золотых бревенчатых изб», как у Сергея Есенина в Константинове. Итак, все помнят, что Пушкин – это Михайловское, Болдино и Захарово. Тургенев – Спасское-Лутовиново. Толстой – Ясная Поляна. Блок – Шахматово. Чехов – Мелихово. Центром притяжения для большинства известных живописцев конца XIX века оказалось подмосковное имение Абрамцево. Недаром в Советском Союзе был создан писательский посёлок Переделкино, ставший символом русской литературы XX века. Замечу, что не дом-коммуна «пролетарских гениев» и не квартал в конструктивистском стиле, а именно – деревянное поселение. По этой же «старорусской» схеме в 1920-х годах соорудили посёлок художников на Соколе. Итак, деревня, изба – это источник жизненной силы. Деревня – дерево – древо жизни.
Итак, деревня – антипод города, как и аграрная, обладающая громадными пространствами, Русь во многом - антипод городской Западной цивилизации. Собственно, Город в европейском значении - это исключительно Санкт-Петербург, создававшийся, как нарочитая антитеза всем остальным русским городам, в том числе, и Москве. Недаром иной раз шутили, что Москва – это большая деревня. «В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов!» - в этом вопле,как для автора, так и для его персонажа, Саратов, глушь и деревня – это приблизительно одно и то же. Города - Калинов в «Грозе» и Бряхимов в «Бесприданнице» у Островского. Мордасов - в «Дядюшкином сне» Достоевского. Многочисленные «уездные города N» у Гоголя и впоследствии – у Ильфа с Петровым – это во многом всё те же «большие деревни».
Интересно, что знаменитый экономист и теоретик аграрного вопроса – Александр Чаянов в своё время пытался доказать, что Советская Россия не должна идти по европейскому-городскому пути. В его фантастической повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», написанной в 1924 году описывается мир 1984 года, но…это цивилизация, отринувшая индустриализацию. Описания Светлого Будущего просто фееричны: «Обширная семья Мининых занимала несколько маленьких домиков, построенных в простых формах XVI века и обнесённых тыном, придававшим усадьбе вид древнего городка». Или: «Направо и налево тянулись такие же прекрасные аллеи, белели двухэтажные домики, иногда целые архитектурные группы, и только вместо цветов между стенами тутовых деревьев и яблонь ложились полосы огорода, тучные пастбища и сжатые полосы хлебов». Девушки 1984 года носят сарафаны и платья на кринолине, то есть следуют крестьянским обыкновениям или же дворянским модам дореформенной эпохи…
Уже в 1970-х годах советская интеллигенция – духовная наследница старинной аристократии - обратила свои взоры и мысли к деревне. Возникло целое направление «писатели-деревенщики». Они полагали, что индустриальная цивилизация уродует душу русского человека, делает из него растерянного и при этом – агрессивного маргинала. Основная мысль - противопоставление бестолкового городского житья – деревенскому благолепию. У Василия Шукшина читаем: «Потом переходили на людей – какие люди хорошие в деревне: приветливые, спокойные, не воруют, не кляузничают. - А у нас... обрати внимание: у нас, если баба пошла по воду, она никогда дом не запирает - зачем? Приткнет дверь палочкой, и все: сроду никто не зайдет. Уж на что цыганы - у нас их полно - и то не зайдут…»
Вторжение городских привычек в деревенскую жизнь – одна из популярных тем в русском искусстве. Есенинский жеребёнок, пытающийся соревноваться с паровозом – символ этой неравной борьбы. На выставке мы можем увидеть картину Николая Богданова «Крестьянские дети в пейзаже с поездом» (1882). Картина – реалистична. Всё выписано со скрупулёзным тщанием – всё, кроме самого поезда. Железное чудо (или чудище) глазами сельских малышей. Для них это – нечто их иного мира. Они видят только ряд бессмысленных прямоугольников, несущихся в необозримое далёко. Их-то мир – размерен и спокоен, как шаг Савраски.
Деревня – это отдохновение и уединение. Способ прийти в себя и – найти себя. В этом поможет сельский пейзаж. «Сыплет черемуха снегом, /Зелень в цвету и росе…». В соседнем выставочном зале – пейзажные зарисовки, картины, окружающий мир – глазами пахаря и глазами барина.У Гончарова читаем: «С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далёкое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой - темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу - Погляди-ка, …и ведь все это твоё, милый сынок…» Ощущение своей «природной» земли – это было присуще русскому дворянину и – русскому крестьянину.
Забавно, что Ильф и Петров вкладывают в уста жулика Бендера очевидную и очень важную фразу, по сути, культурный код нашей цивилизации: «– Молоко и сено, – сказал Остап, когда «Антилопа» на рассвете покидала деревню, – что может быть лучше! Всегда думаешь; «Это я еще успею. Еще много будет в моей жизни молока и сена». А на самом деле никогда этого больше не будет. Так и знайте: это была лучшая ночь в нашей жизни, друзья!» Мир русской деревни – это наша общая биография…
***
Выставка продлится до 28 сентября.
Музей В. Тропинина:
м. «Третьяковская», «Павелецкая», Щетининский пер., д. 10, стр. 1.
Режим работы: понедельник, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00; четверг - с 13.00 до 21.00, вторник, среда - выходные. Сан. день - последний понедельник месяца.
Телефон: (495) 959-11-03 - заказ экскурсий
zavtra.ru