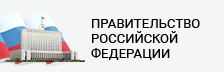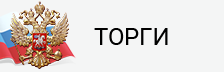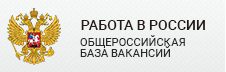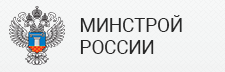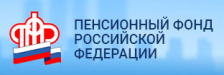Книга Мука разбитого сердца. Автор - Акунин Борис. Содержание - Горькая тризна. Акунин мука разбитого сердца
Борис Акунин, Мука разбитого сердца – читать онлайн – Альдебаран

Подвиг вольноопределяющегося
В первый же день мобилизации студент Алексей Романов отправился на призывной пункт и записался добровольцем в действующую армию. Побудительным мотивом был не патриотизм, а самобичевание: смыть кровью ужасную вину за проваленную операцию. Еще лучше – пасть на поле брани, потому что в жилах одного человека не достанет крови, чтобы искупить ошибку такого масштаба.
Студентов на службу брали неохотно, армейское командование было уверено, что побьет тевтонов силами одной регулярной армии, однако Алеше повезло. В N-ском пехотном полку, формировавшемся из запасных Санкт-Петербургской губернии, был недокомплект писарей. Посему Романов получил погоны с витым шнурком и был зачислен в штаб оператором пишущих машин. Однако при «ундервуде» студент состоял недолго.
В первом же серьезном бою, у восточнопрусской мызы Блюменфельд, едва лишь батарея начала артподготовку, вольноопределяющийся сбежал на передовую линию. Он боялся только одного – что турнут обратно. Но офицеры были ему рады – и командир роты, и субалтерн Шольц, очень славный веснушчатый подпоручик одного с Алешей возраста. Пожали храбрецу руку, выдали винтовку, показали, как примкнуть штык.
Когда капитан заливисто дунул в свисток и отчаянным голосом крикнул «Ура, братцы! Вперед!», Алеша зачем-то посмотрел на часы (было ровно девять утра) и прыгнул из окопа на поле, будто в прорубь на Крещенье.
Он несся огромными прыжками. Потом оглянулся, увидел, что здорово оторвался от роты, и стал бежать потише.
Спереди, со стороны кустарника, начали стрелять, воздух наполнился шипением и разбойничьим свистом. Это пули, понял Романов. Представил, как раскаленный кусок свинца попадает в живот, зажмурился и тоже стал орать «Ура-а-а!». Но кричать и бежать было трудно – не хватало дыхания. Глаза же и вовсе закрывать не следовало. Вольноопределяющийся споткнулся о торчащий из земли сук и упал, а когда поднялся, впереди были сплошь спины в линялых гимнастерках.
Та-та-та-та-та! – с радостным ожесточением ударил пулемет. Вокруг все закричали, но не «Ура!», а «Мама!» или по-матерному. Все вдруг побежали гораздо медленнее. Многие стали падать. Кое-кто повернул назад. У этих, которые повернули и теперь оказались к Алеше лицом, были вытаращенные, остановившиеся глаза и разинутые рты.
Сплошная стена гимнастерок, заслонявшая поле, проредилась. Романов снова оказался впереди всех. Капитана не было видно, в свисток больше никто не дул. Зато Шольца студент увидел совсем близко. Подпоручик лежал ничком, отбросив руку в перчатке.
– Вы что, ребята, вы что?! – закричал Алеша бегущим.
Только в этот миг ему стало по-настоящему страшно. Если все побегут, то и ему придется. Тогда пуля попадет не в грудь, а в спину. Хороша будет смерть храбрых!
Он замахал винтовкой, повернув назад одну только голову.
– Ребята, вперед! Немножко осталось! Вон они, кусты!
«Совсем как Болконский при Аустерлице», мелькнуло в голове у Романова.
Только за князем Болконским солдаты побежали, а за Алешей никто. Он остался торчать посреди пустого пространства один.

Вперед бежать было глупо, в плен попадешь. Назад – немыслимо.
Неизвестно, чем бы закончилась эта невозможная ситуация, если б не германская пуля, попавшая-таки в Алешу. Не в грудь и, слава Богу, не в спину. В руку.
Как будто кто-то с размаху ударил железным ломом пониже правого локтя. Было не столько больно, сколько горячо, и вся рука до плеча разом онемела. От толчка Романов крутанулся на месте, упал.
Понял: ранен. И опять зачем-то посмотрел на часы. Очевидно, сработала подсознательная реакция – ухватиться за нечто незыблемое и логическое в сошедшей с ума реальности.
Но оказывается, время тоже окоченело от ужаса. Циферблат показывал все те же девять часов. Атака не продлилась и одной минуты.
Неимоверное облегчение – вот чувство, с которым Алеша, пригнувшись, бежал назад. Винтовку волочил по траве за ремень. Немцы по раненому не стреляли.
Доковылял до окопа, упал на руки солдат и лишь тогда, опять-таки с облегчением, лишился чувств.
С героями на германском фронте в эти мрачные сентябрьские дни было скудно. Бездарную атаку на пулеметы по открытому полю в рапорте представили как богатырский порыв. Раненого студента представили к унтер-офицерскому чину, наградили крестом, а еще поместили в газете Севзапфронта заметку «Подвиг вольноопределяющегося», которую потом перепечатали и в столицах.
Из публикации Романов узнал, что он с огнем в глазах и кличем «За Русь-матушку!», увлек роту в геройскую штыковую атаку после выбытия из строя всех офицеров. Про то, что рота не очень-то увлеклась, а до штыков вовсе не дошло, в статейке упомянуто не было.
Вопрос о том, смыл ли он вину кровью, для Алеши так и остался открытым. По правде говоря, ему было не до моральных терзаний – хватало физических. Восьмимиллиметровая пуля германского «машиненгевера» перебила кости предплечья. Измученный беспрерывными операциями хируг поначалу хотел отчикать растерзанную конечность, потому что ампутация занимает пятнадцать минут, а, если вычищать осколки кости да сшивать сухожилия, это возни часа на два. Но узнал, что студент – и пожалел. Повезло Алеше, остался при руке.
Проку от нее, честно сказать, было мало. Одна мука. Рука двигаться не двигалась, но исторгала невероятное количество гноя и адски саднила, а обезболивающие уколы в отделении для нижних чинов делали лишь самым тяжелым. Чтобы не выть в голос, Романов распевал нудные, тягучие романсы Абазы. Тем и спасся.
У кровати бледного героя стали задерживаться сестрички милосердия. Слушали с затуманенным взором, вздыхали, иные и плакали. Одна повязку не в очередь сменит, другая лоб уксусом протрет, а некая Машенька даже потихоньку таскала из операционной шприцы с морфием. Так Алеша и пережил первые три недели, потом стало легче. Лихорадка спáла, боли прошли.
В госпиталь приехал генерал, прицепил герою прямо на пижаму сияющий солдатский «Георгий». Алеша спел на Покровском концерте, после чего был перемещен в офицерскую палату. Жизнь понемногу вновь обретала краски.
Но были и поводы для огорчения, числом два.
Во-первых, не слушалась рука. Кисть еще так-сяк шевелилась, а пальцы ни в какую, и старший ординатор на вопрос о перспективах лишь качал головой. Было очень похоже, что ни водить авто, ни играть на фортепьяно студенту Романову больше не доведется.
Меньшее (но тоже нешуточное) огорчение возникло из-за милосердной Машеньки. Как известно, в женском сердце от милосердия до любви дистанция самая крохотная. А девушка была смелая, с характером – даром что ли на войну ушла – и повела себя на манер пушкинской героини, то есть своих чувств скрывать не стала.
В случаях, когда нужно ответить на страстное признание отказом, мужчине приходится куда труднее, чем женщине. Обычаи и привычки общества таковы, что, оказавшись в положении Иосифа Прекрасного, бегущего ласк жены Потифара, молодой человек выглядит довольно комично и даже жалко. Особенно если тут еще примешивается долг живейшей благодарности и симпатия, ибо Машенька была, хоть не красавица, но очень и очень мила.
В конце концов обошлось. Алеша поступил немножко жестоко, но честно: рассказал про Симу, и Машенька, благородная душа, поняла. Даже предложила, что будет под Алешину диктовку писать счастливой сопернице письма, однако это было бы уже чересчур.
После ранения Романов невесте ни разу не написал, да и от нее весточек не было. Последнее неудивительно, поскольку госпиталь несколько раз переезжал с места на место. Сам же он не мог держать перо, а потом, когда кое-как обучился карябать левой, подумал, что эффектнее будет заявиться лично. Наверняка Сима читала про геройство вольноопределяющегося в газете, места себе от тревоги не находит. Тут-то он и объявится: с крестом, с лычками, с рукой на черном платке.
Через восемь недель после ранения младший унтер-офицер А.П.Романов был выписан в бессрочный отпуск и отбыл в Санкт-Петербург.
При трогательном расставании получил от Машеньки закапанную слезами инструкцию с рисуночками (как разрабатывать руку, чтоб не сохла) и маленький каучуковый мячик – тренировать пальцы.
Фронтовая карьера добровольца была закончена.
Возвращение героя
Однажды ноябрьскими сумерками на крыльцо маленького, знававшего лучшие времена особнячка у Невской заставы поднялся увечный защитник отечества в накинутой на плечи шинели. Встал перед медным колокольчиком, но позвонил в него не сразу, а минут через пять.
Сначала поставил чемоданчик и продел левую руку в рукав, правое же плечо шинели отвел подальше, чтоб было видно черную перевязь. Подумав немного, раскрыл пошире и левый отворот – там блеснул георгиевский крест. Поправил фуражку. Посмотрелся в маленькое зеркальце и, кажется, остался собою доволен. Взволнованное лицо просияло улыбкой.
Не может быть, чтобы Симочка долго сердилась на раненого героя. Ну да, ушел на фронт не попрощавшись, написал уже из эшелона. И после ранения не давал о себе знать. Но ведь не к цыганам на острова ездил – Родину защищал. И вернулся со щитом. То есть, собственно, даже на щите. Если учитывать тяжкое ранение.
Главное ни в коем случае не оправдываться. Просто сказать: «Любимая, это я». Или еще лучше: «Господи, как я по тебе соскучился».
Охваченный новым приступом волнения, он дернул за язычок. Колокольчик зазвонил громко и страстно.
Хорошо бы открыла не горничная, а сама Симочка. Но лучше горничная, чем матушка Антония Николаевна. Она Алеше никогда не симпатизировала.
– Глашка, звонят! Открой! – донесся откуда-то из глубин дома звучный мужской голос. – Глафира! Где она? Что за черт?
Точно такой же вопрос возник и у Алеши. Что за черт? Какой такой крикун распоряжается в доме Чегодаевых?
Послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась.
На пороге стоял усатый субъект в самом что ни на есть затрапезном виде. На волосах сеточка, на груди салфетка, одет в бархатную куртку, ноги в домашних туфлях. Судя по цвету канта на форменных брюках, офицер интендантского ведомства.
Увидев перед собой нижнего чина, непонятный человек рассердился:
– Что трезвонишь, болван? Для хамья есть черный ход! А расхристался-то! – Взгляд грозно упал на раскрытую шинель. Наверняка заметил и руку на перевязи, и крест, но не смягчился, а совсем наоборот. – Еще кавалер! Стыдно!
– Что за тон, милостивый государь! – вспыхнул Романов, благо наглец был не в кителе, а офицерских брюк раненый герой мог и не заметить.
Незнакомец услышал «милостивого государя», разглядел шнурок по краю погона и сменил тон:
– А, вольнопер, – снисходительно пробасил он. – Извиняюсь. Не разглядел. Вам кого?
У Алеши сжалось сердце. Съехали! Вот и горничная не злющая мымра Степанида, а какая-то неведомая Глашка.
– Я к Серафиме Александровне Чегодаевой… Они что, тут больше не живут?
Офицер чуть нахмурился. Невежливо ответил вопросом на вопрос:
– Вы, собственно, кто?
– Романов, Алексей Парисович.
Вдруг Алешу осенило. Антония Николаевна рассказывала про какого-то своего двоюродного племянника.
– А вы, наверно, Симочкин кузен из Тулы? – заулыбался молодой человек. – Антония Николаевна говорила, что вы артиллерист. Наверно, перепутала. Знаете, женщинам всё едино…
– «Симочкин»? – повторил интендант голосом, который не предвещал ничего хорошего. – Однако… Я не кузен и в Туле отродясь не бывал. – Обернувшись, загадочный господин крикнул. – Лапусик! К тебе какой-то господин Рубанов!
– Романов, – смертельно побледнев, пролепетал Алеша.
Ему показалось, что в прихожей вдруг стало темно, а стены будто качнулись и стиснули коридор, который сделался похож на мрачное, бесприютное ущелье.
Но раскрылась белая дверь, из нее хлынул яркий электрический свет. В дверном проеме стояла Симочка в красном шелковом халате и папильотках.
Она увидела гостя, сразу всё поняла и схватилась за сердце.
– Ах! Алеша… То есть Алексей Парисович! – с удивительной быстротой поправилась она и, решительно сжав кулачки, заговорила быстро и твердо. Очевидно, не раз воображала себе эту сцену и была к ней готова. – Я хотела тебе… то есть вам написать, но… всё не могла собраться… Это Михаил Антонович. Мой муж. Мы только что вернулись из свадебного путешествия. Ездили на воды, в Кисловодск. Всего на неделю. На больший срок Мишеля не отпустили. Война, а он так нужен на службе! Вы, Алеша, наверное, к маме? А они со Степанидой переехали. Мишель снял им чудную квартирку на Литейном.

Муж слушал и наливался опасным багрянцем. Кажется, басне про маму не поверил.
– Ах, милый, это же Алексей Романов! Я тебе рассказывала! – всё быстрей тараторила Сима, теребя своего Мишеля пальчиками за рукав. – Ну, которому мама так покровительствовала. У него еще баритон. Неужели не помнишь?
Она говорила что-то еще, но бедный, раздавленный Алеша уже не слушал. Он опустил глаза, чтобы не видеть раскрасневшегося от вранья личика своей невесты. Взгляд упал на ее щиколотки, розовевшие в обрамлении туфелек беличьего меха.
Сердце сжалось, в груди будто что-то хрустнуло.
Жизнь была кончена
Когда Мишель, сменив гнев на милость и даже выказав деликатность, вышел из коридора, Сима перешла на шепот, даже прижалась на миг. Губам стало горячо и влажно – то ли поцеловала, то ли слезой капнула. Алеша не разобрал, ибо пребывал в оцепенении.
Жизнь была кончена. В этот черный миг жалеть следовало только об одном – что германский пулемет не оборвал ее на поле у мызы Блюменфельд. Всё, что произошло позднее, два месяца боли и надежд, были ни к чему. Пустой перевод тепловой энергии, кислорода и дефицитного морфия.
Романов вспомнил блаженное ощущение неуязвимости и довольства, накатывавшее после каждого Машенькиного шприца. Вспомнил и саму Машеньку. Но морфий не может заменить реальность. Машенька не может заменить любовь.
Кончено, всё кончено.
Он шел по мокрой мостовой под мелким ноябрьским дождем. Вдоль тротуарных бровок густо лежали мертвые листья. Как тела в линялых гимнастерках на расстрелянном поле. Не повезло. Не повезло…
Когда первое потрясение ослабело, Алеша по математической привычке просчитал варианты решения.
В армию не возьмут. Кому он, однорукий, нужен? Комиссован вчистую.
Вернуться в университет? Невозможно. Какие могут быть лекции и экзамены после Блюменфельда? Какая к черту математика? Мир бессмысленно жесток, любая попытка его рационализировать, научно объяснить – подлость и шарлатанство.
Уехать к отцу в Сестрорецк? Там другая жена, другие дети. Не нужен им Алексей Романов, да и они ему не нужны.
Варианты были перебраны более для проформы. Разбитое сердце знало правильный ответ заранее. Он оказывался единственно верным.
Вчистую так вчистую. Отличное слово.
Грязь, слякоть, ноябрь, предательство, физическая и духовная мука пускай остаются здесь. Без нас.
Как? – спросил себя разом повеселевший Алеша.
Очень просто.
А «Капитал»-то на что?
Смертоносная книга
Марксов «Капитал» стоял на том же месте, только пылью покрылся – и то исключительно из-за почтительности горничной-чухонки, которая знала, что Алексей Парисович не одобряет, когда тряпка или щетка касаются его письменного стола или книжных полок.
Ирма Урховна была славная, на ее аккуратности и обстоятельности держался весь безалаберный дом дяди Жоржа. В тощие дни, когда старый оболтус спускал в карты все деньги, Ирма прибегала к крайнему средству – отпирала свой заветный сундучок, в котором хранились деньги, отложенные на похороны. Баба она была еще не старая, исключительно крепкого здоровья, но любила повторять: «Если сто, Ирма сама са себя плятит, перет лютьми стыдно не путет». Потом, восстановив кредитоспособность, Георгий Степанович возвращал долг с лихвой. Лихва тоже откладывалась во имя грядущего скорбного торжества. Денег в сундучке, наверное, уже хватило бы на генеральские похороны с лакированным катафалком и духовым оркестром.
Дяди в городе не было. Он заделался видным деятелем патриотического движения, беспрестанно разъезжал по городам и весям, собирая зажигательными речами средства на военный заём.
Вернувшегося воина встретила одна горничная. Оросила слезами и всё повторяла «какой плёхой стал, коза да кости». Сбегала куда-то, принесла платок, на котором все эти дни вышивала ангелов. Они-то, по ее словам, и уберегли «Алёсеньку» от гибели.
Вот единственный человек, который меня ждал, с обидной для Ирмы горечью подумал Романов. Сухо спровадил добрую женщину за дверь и огляделся.
Как уже было сказано, в комнате студента всё осталось по-прежнему. Даже оброненная на пол коленкоровая тетрадочка лежала нетронутой, Ирма подметала пол вокруг нее, а саму писчебумажную принадлежность не потревожила. В тетрадочке наивный студент намеревался вести фронтовой дневник, да позабыл взять из-за поспешности сборов.
Алеша поднял блокнот, вырвал страничку и злобно накалякал карандашом: «А ну вас всех!»
Еще раз обвел взглядом комнату, в которой прожил целых четыре года.
Пианино сверкало черным лаком, как будущий Ирмин катафалк. Играть на инструменте всё равно не пришлось бы. Разве можно тренировать пальцы каучуковым мячиком, если сердце в осколках?
На столе (маленькая садистская деталь) стояла в рамке фотокарточка улыбающейся Симы, супруги мордатого интенданта.
Да, женское сердце загадка. Но пускай ее разгадывают другие.
Без колебаний он снял с полки картонный книжный футляр. На нем было напечатано готическими буквами «Das Kapital», однако фолианта внутри не было. На первом курсе Алеша честно пытался освоить эпохальный труд германского ученого, но не преуспел. В картонке был спрятан пистолет «штейер-пипер», досадное напоминание об еще одном горьком фиаско.
На следующий день после памятной дуэли на брудершафт Романов наведался в дачный лесок и отыскал выпавшую обойму. Ибо как без нее возвращать казенное оружие? Но сдавать пистолет не пришлось. Штабсротмистр Козловский лежал в госпитале, а тут нагрянула мобилизация. Отправляясь на фронт, Алеша спрятал оружие в такое место, куда ни дисциплинированная Ирма, ни равнодушный к ученым книгам дядя нипочем не полезли бы.
Расчет оказался верен.
На ладонь легла маленькая, совсем не тяжелая машинка, таившая в себе ответ на главный вопрос бытия: быть иль не быть.
Ответ был таков: not to be.
Младший унтер-офицер N-ского пехотного полка – это вам не растяпа-студент. В рычажках и кнопках не запутается, магазина на пол не выронит. Одна беда – не так-то просто взвести затвор одной левой.
Яростно ругаясь шепотом, Романов сел поудобнее, зажал пистолет под мышкой. И чуть не всхлипнул от злости. Опять не вышло!
Эврика!
На краю стола в тусклом свете абажура блеснули маленькие тиски. Когда-то, в прежней жизни, у студента Алеши Романова было множество невинных увлечений. Пение. Футбол. Бокс. Выпиливание лобзиком. Самым полезным оказалось последнее.
Вот оно, решение задачи. Зажать кончик ствола, затвор дернуть левой рукой.
Алеша порывисто вскочил, и тут, как назло, раздалось: тук-тук-тук!
Кто там еще? Ирма в дверь никогда не стучит, это кажется ей неделикатным. Скребет ногтем и спрашивает: «Мозьно?»
Не откликаться, не открывать!
Всех к черту!
Дверная рукоятка качнулась. Створка скрипнула. Проклятье! От волнения он забыл запереться!
Алеша еле успел положить «пипер» на стол и прикрыть батистовым платком, сплошь расшитым ангелочками.
Явление Ангела-Спасителя
Высокая, плечистая фигура, вдоль и поперек перехваченная скрипучими ремнями, заняла собою весь проем.
– Ну-ка, ну-ка, покажитесь! Что это вы в сумерках? Где тут выключатель? – Вспыхнула люстра, и штабс-ротмистр Козловский предстал перед бывшим соратником во всей гвардейской красе: румяный, здоровый, с победительно торчащими усами. – Лычки, боевой крест! Герой! Я вас, Романов, обыскался. Хотел из полка вытребовать – говорят, в госпитале. Я в госпиталь – выписан. Ну, я сюда, по старой памяти. И застал! Повезло! Как рука? – заботливо нахмурился князь, обнимая Алешу только с одной, левой стороны. – Срослась?
Постная физиономия могла вызвать ненужные расспросы, поэтому Романов изо всех сил растянул губы в улыбке.
– Здравствуйте, Лавр Константинович. Кости-то ничего, вот сухожилия… Пальцы не слушаются.
– Э, голуба, мячик жать надо, гуттаперчевый, я вам подарю.
Козловский сел на стул, положил фуражку прямо рядом с ненадежно замаскированным пистолетом.
– Мячик есть. Вы сами-то как? Поправились? – поспешно спросил Алеша, заходя с другой стороны, чтобы собеседник повернул к нему голову.
– Здоровей прежнего. – Князь с любопытством разглядывал молодого человека. – Дыра в кишках – ерунда, зарастает в два счета, это вам не сухожилие. Доктора говорят, мне теперь коньяку нельзя, плохо будет. Но это они врут, я проверял. Очень даже хорошо. Читал в газете про ваш подвиг. Герой! А почему лицо кислое? В чем дело?

Контрразведчик есть контрразведчик, перед таким притворяться бессмысленно.
Убрав с лица фальшивую улыбку, Романов небрежно обронил:
– Так… Невеста замуж вышла. В смысле, за другого… Трех месяцев не прождала.
– Та, блондиночка? – кивнул штабс-ротмистр. – Ну и черт с ней. На что вам невеста, которая ждать не умеет? А не дай Бог, женились бы? Еще хуже бы вышло. Радоваться надо, что спас Господь.
Он хлопнул Алешу по здоровому плечу и подмигнул:
– Будет вам. Что нос повесили? Не стреляться же из-за дуры! – Еще и засмеялся, солдафон. – Сейчас такие времена, найдется, кому в нас пострелять.
Он подождал, не скажет ли что-нибудь на это собеседник. Не дождался. Тогда прищурился и сменил тон с веселого на деловитый.
– Его превосходительство помните? Кофе с булочкой? Погнали к черту. Он и в мирное-то время был не орел, а как война началась, вовсе потерялся. Отправлен назад, в полицию. Бдить за марксистами. – Штабсротмистр покосился на футляр от «Дас Капитала» и наморщил нос. – Ну туда ему и дорога. А у нас новый шеф, генерал Жуковский. Толковый, одно удовольствие служить. Причем разведку и контрразведку решено объединить под общим руководством. Так что все вместе работаем.
Алеша ахал, двигал бровями, вставлял односложные слова – в общем, изображал заинтересованность. Нужно было дотерпеть, дождаться, пока старый знакомец уйдет.
Но князь, похоже, никуда не торопился. Закурил папиросу, откинулся назад, пристроил хромую ногу поудобнее.
– А я к вам по делу. Вы мне очень нужны. Сколько времени на поиски потратил!
По какому еще делу, тоскливо подумалось без пяти минут самоубийце. Долго ты меня мучить будешь, дьявол колченогий? Изыди!
– Хотите Родине пользу принести? – интригующим тоном спросил Козловский. – Гораздо большую, чем в окопе?
– С окопами всё. – Романов кивнул на раненую руку. – Комиссован вчистую.
– Тем более! Тут такое дело… – Штабс-ротмистр весь подался в Алешину сторону и понизил голос. – Шерлок Холмс, Монте-Кристо и Нат Пинкертон в одной шкатулке. Я сразу про вас вспомнил. Во-первых, отлично на том деле поработали…
Алеша скривился – воспоминание было не из приятных.
– …А во-вторых, у вас, сколько я помню, хороший тенор?
– Баритон.
– Неважно. Талант в землю зарывать – грех. Готовы послужить отечеству, георгиевский кавалер?
– Готов, – вяло ответил кавалер.
А что было отвечать: «Не готов, я покидаю ваше отечество ради Отечества Небесного»? При чем тут талант и баритон, даже спрашивать не стал. Неинтересно.
– Вы извините, Лавр Константинович, рука что-то разнылась… Давайте после поговорим.
Но от штабс-ротмистра так просто было не отвязаться.
Он поднялся, потянул молодого человека за локоть из комнаты.
В прихожей накинул ему на плечи шинель, нахлобучил фуражку.
– А раз готовы, так едемте. Время дорого. Такое расскажу – враз о ране позабудете.
От этакого напора Романов опешил, да и не в том он сейчас был состоянии, чтобы отбиваться. Бубнил что-то про усталость, про руку, но князь не слушал.
Уже на лестнице Козловский хлопнул себя по лбу, рассмеялся.
– Вас-то одел, а сам с непокрытой головой. Я сейчас!
Быстро проковылял назад в комнату, взял со стола забытую фуражку. Потом, воровато оглянувшись, приподнял платок. Поцокал языком.
Вынув из пистолета обойму, князь спрятал ее в карман и снова прикрыл оружие батистом.
aldebaran.ru
Книга Мука разбитого сердца - читать онлайн бесплатно, автор Борис Акунин, ЛитПортал
Борис АкунинМука разбитого сердца

Подвиг вольноопределяющегося
В первый же день мобилизации студент Алексей Романов отправился на призывной пункт и записался добровольцем в действующую армию. Побудительным мотивом был не патриотизм, а самобичевание: смыть кровью ужасную вину за проваленную операцию. Еще лучше – пасть на поле брани, потому что в жилах одного человека не достанет крови, чтобы искупить ошибку такого масштаба.
Студентов на службу брали неохотно, армейское командование было уверено, что побьет тевтонов силами одной регулярной армии, однако Алеше повезло. В N-ском пехотном полку, формировавшемся из запасных Санкт-Петербургской губернии, был недокомплект писарей. Посему Романов получил погоны с витым шнурком и был зачислен в штаб оператором пишущих машин. Однако при «ундервуде» студент состоял недолго.
В первом же серьезном бою, у восточнопрусской мызы Блюменфельд, едва лишь батарея начала артподготовку, вольноопределяющийся сбежал на передовую линию. Он боялся только одного – что турнут обратно. Но офицеры были ему рады – и командир роты, и субалтерн Шольц, очень славный веснушчатый подпоручик одного с Алешей возраста. Пожали храбрецу руку, выдали винтовку, показали, как примкнуть штык.
Когда капитан заливисто дунул в свисток и отчаянным голосом крикнул «Ура, братцы! Вперед!», Алеша зачем-то посмотрел на часы (было ровно девять утра) и прыгнул из окопа на поле, будто в прорубь на Крещенье.
Он несся огромными прыжками. Потом оглянулся, увидел, что здорово оторвался от роты, и стал бежать потише.
Спереди, со стороны кустарника, начали стрелять, воздух наполнился шипением и разбойничьим свистом. Это пули, понял Романов. Представил, как раскаленный кусок свинца попадает в живот, зажмурился и тоже стал орать «Ура-а-а!». Но кричать и бежать было трудно – не хватало дыхания. Глаза же и вовсе закрывать не следовало. Вольноопределяющийся споткнулся о торчащий из земли сук и упал, а когда поднялся, впереди были сплошь спины в линялых гимнастерках.
Та-та-та-та-та! – с радостным ожесточением ударил пулемет. Вокруг все закричали, но не «Ура!», а «Мама!» или по-матерному. Все вдруг побежали гораздо медленнее. Многие стали падать. Кое-кто повернул назад. У этих, которые повернули и теперь оказались к Алеше лицом, были вытаращенные, остановившиеся глаза и разинутые рты.
Сплошная стена гимнастерок, заслонявшая поле, проредилась. Романов снова оказался впереди всех. Капитана не было видно, в свисток больше никто не дул. Зато Шольца студент увидел совсем близко. Подпоручик лежал ничком, отбросив руку в перчатке.
– Вы что, ребята, вы что?! – закричал Алеша бегущим.
Только в этот миг ему стало по-настоящему страшно. Если все побегут, то и ему придется. Тогда пуля попадет не в грудь, а в спину. Хороша будет смерть храбрых!
Он замахал винтовкой, повернув назад одну только голову.
– Ребята, вперед! Немножко осталось! Вон они, кусты!
«Совсем как Болконский при Аустерлице», мелькнуло в голове у Романова.
Только за князем Болконским солдаты побежали, а за Алешей никто. Он остался торчать посреди пустого пространства один.

Вперед бежать было глупо, в плен попадешь. Назад – немыслимо.
Неизвестно, чем бы закончилась эта невозможная ситуация, если б не германская пуля, попавшая-таки в Алешу. Не в грудь и, слава Богу, не в спину. В руку.
Как будто кто-то с размаху ударил железным ломом пониже правого локтя. Было не столько больно, сколько горячо, и вся рука до плеча разом онемела. От толчка Романов крутанулся на месте, упал.
Понял: ранен. И опять зачем-то посмотрел на часы. Очевидно, сработала подсознательная реакция – ухватиться за нечто незыблемое и логическое в сошедшей с ума реальности.
Но оказывается, время тоже окоченело от ужаса. Циферблат показывал все те же девять часов. Атака не продлилась и одной минуты.
Неимоверное облегчение – вот чувство, с которым Алеша, пригнувшись, бежал назад. Винтовку волочил по траве за ремень. Немцы по раненому не стреляли.
Доковылял до окопа, упал на руки солдат и лишь тогда, опять-таки с облегчением, лишился чувств.
С героями на германском фронте в эти мрачные сентябрьские дни было скудно. Бездарную атаку на пулеметы по открытому полю в рапорте представили как богатырский порыв. Раненого студента представили к унтер-офицерскому чину, наградили крестом, а еще поместили в газете Севзапфронта заметку «Подвиг вольноопределяющегося», которую потом перепечатали и в столицах.
Из публикации Романов узнал, что он с огнем в глазах и кличем «За Русь-матушку!», увлек роту в геройскую штыковую атаку после выбытия из строя всех офицеров. Про то, что рота не очень-то увлеклась, а до штыков вовсе не дошло, в статейке упомянуто не было.
Вопрос о том, смыл ли он вину кровью, для Алеши так и остался открытым. По правде говоря, ему было не до моральных терзаний – хватало физических. Восьмимиллиметровая пуля германского «машиненгевера» перебила кости предплечья. Измученный беспрерывными операциями хируг поначалу хотел отчикать растерзанную конечность, потому что ампутация занимает пятнадцать минут, а, если вычищать осколки кости да сшивать сухожилия, это возни часа на два. Но узнал, что студент – и пожалел. Повезло Алеше, остался при руке.
Проку от нее, честно сказать, было мало. Одна мука. Рука двигаться не двигалась, но исторгала невероятное количество гноя и адски саднила, а обезболивающие уколы в отделении для нижних чинов делали лишь самым тяжелым. Чтобы не выть в голос, Романов распевал нудные, тягучие романсы Абазы. Тем и спасся.
У кровати бледного героя стали задерживаться сестрички милосердия. Слушали с затуманенным взором, вздыхали, иные и плакали. Одна повязку не в очередь сменит, другая лоб уксусом протрет, а некая Машенька даже потихоньку таскала из операционной шприцы с морфием. Так Алеша и пережил первые три недели, потом стало легче. Лихорадка спáла, боли прошли.
В госпиталь приехал генерал, прицепил герою прямо на пижаму сияющий солдатский «Георгий». Алеша спел на Покровском концерте, после чего был перемещен в офицерскую палату. Жизнь понемногу вновь обретала краски.
Но были и поводы для огорчения, числом два.
Во-первых, не слушалась рука. Кисть еще так-сяк шевелилась, а пальцы ни в какую, и старший ординатор на вопрос о перспективах лишь качал головой. Было очень похоже, что ни водить авто, ни играть на фортепьяно студенту Романову больше не доведется.
Меньшее (но тоже нешуточное) огорчение возникло из-за милосердной Машеньки. Как известно, в женском сердце от милосердия до любви дистанция самая крохотная. А девушка была смелая, с характером – даром что ли на войну ушла – и повела себя на манер пушкинской героини, то есть своих чувств скрывать не стала.
В случаях, когда нужно ответить на страстное признание отказом, мужчине приходится куда труднее, чем женщине. Обычаи и привычки общества таковы, что, оказавшись в положении Иосифа Прекрасного, бегущего ласк жены Потифара, молодой человек выглядит довольно комично и даже жалко. Особенно если тут еще примешивается долг живейшей благодарности и симпатия, ибо Машенька была, хоть не красавица, но очень и очень мила.
В конце концов обошлось. Алеша поступил немножко жестоко, но честно: рассказал про Симу, и Машенька, благородная душа, поняла. Даже предложила, что будет под Алешину диктовку писать счастливой сопернице письма, однако это было бы уже чересчур.
После ранения Романов невесте ни разу не написал, да и от нее весточек не было. Последнее неудивительно, поскольку госпиталь несколько раз переезжал с места на место. Сам же он не мог держать перо, а потом, когда кое-как обучился карябать левой, подумал, что эффектнее будет заявиться лично. Наверняка Сима читала про геройство вольноопределяющегося в газете, места себе от тревоги не находит. Тут-то он и объявится: с крестом, с лычками, с рукой на черном платке.
Через восемь недель после ранения младший унтер-офицер А.П.Романов был выписан в бессрочный отпуск и отбыл в Санкт-Петербург.
При трогательном расставании получил от Машеньки закапанную слезами инструкцию с рисуночками (как разрабатывать руку, чтоб не сохла) и маленький каучуковый мячик – тренировать пальцы.
Фронтовая карьера добровольца была закончена.
Возвращение героя
Однажды ноябрьскими сумерками на крыльцо маленького, знававшего лучшие времена особнячка у Невской заставы поднялся увечный защитник отечества в накинутой на плечи шинели. Встал перед медным колокольчиком, но позвонил в него не сразу, а минут через пять.
Сначала поставил чемоданчик и продел левую руку в рукав, правое же плечо шинели отвел подальше, чтоб было видно черную перевязь. Подумав немного, раскрыл пошире и левый отворот – там блеснул георгиевский крест. Поправил фуражку. Посмотрелся в маленькое зеркальце и, кажется, остался собою доволен. Взволнованное лицо просияло улыбкой.
Не может быть, чтобы Симочка долго сердилась на раненого героя. Ну да, ушел на фронт не попрощавшись, написал уже из эшелона. И после ранения не давал о себе знать. Но ведь не к цыганам на острова ездил – Родину защищал. И вернулся со щитом. То есть, собственно, даже на щите. Если учитывать тяжкое ранение.
Главное ни в коем случае не оправдываться. Просто сказать: «Любимая, это я». Или еще лучше: «Господи, как я по тебе соскучился».
Охваченный новым приступом волнения, он дернул за язычок. Колокольчик зазвонил громко и страстно.
Хорошо бы открыла не горничная, а сама Симочка. Но лучше горничная, чем матушка Антония Николаевна. Она Алеше никогда не симпатизировала.
– Глашка, звонят! Открой! – донесся откуда-то из глубин дома звучный мужской голос. – Глафира! Где она? Что за черт?
Точно такой же вопрос возник и у Алеши. Что за черт? Какой такой крикун распоряжается в доме Чегодаевых?
Послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась.
На пороге стоял усатый субъект в самом что ни на есть затрапезном виде. На волосах сеточка, на груди салфетка, одет в бархатную куртку, ноги в домашних туфлях. Судя по цвету канта на форменных брюках, офицер интендантского ведомства.
Увидев перед собой нижнего чина, непонятный человек рассердился:
– Что трезвонишь, болван? Для хамья есть черный ход! А расхристался-то! – Взгляд грозно упал на раскрытую шинель. Наверняка заметил и руку на перевязи, и крест, но не смягчился, а совсем наоборот. – Еще кавалер! Стыдно!
– Что за тон, милостивый государь! – вспыхнул Романов, благо наглец был не в кителе, а офицерских брюк раненый герой мог и не заметить.
Незнакомец услышал «милостивого государя», разглядел шнурок по краю погона и сменил тон:
– А, вольнопер, – снисходительно пробасил он. – Извиняюсь. Не разглядел. Вам кого?
У Алеши сжалось сердце. Съехали! Вот и горничная не злющая мымра Степанида, а какая-то неведомая Глашка.
– Я к Серафиме Александровне Чегодаевой… Они что, тут больше не живут?
Офицер чуть нахмурился. Невежливо ответил вопросом на вопрос:
– Вы, собственно, кто?
– Романов, Алексей Парисович.
Вдруг Алешу осенило. Антония Николаевна рассказывала про какого-то своего двоюродного племянника.
– А вы, наверно, Симочкин кузен из Тулы? – заулыбался молодой человек. – Антония Николаевна говорила, что вы артиллерист. Наверно, перепутала. Знаете, женщинам всё едино…
– «Симочкин»? – повторил интендант голосом, который не предвещал ничего хорошего. – Однако… Я не кузен и в Туле отродясь не бывал. – Обернувшись, загадочный господин крикнул. – Лапусик! К тебе какой-то господин Рубанов!
– Романов, – смертельно побледнев, пролепетал Алеша.
Ему показалось, что в прихожей вдруг стало темно, а стены будто качнулись и стиснули коридор, который сделался похож на мрачное, бесприютное ущелье.
Но раскрылась белая дверь, из нее хлынул яркий электрический свет. В дверном проеме стояла Симочка в красном шелковом халате и папильотках.
Она увидела гостя, сразу всё поняла и схватилась за сердце.
– Ах! Алеша… То есть Алексей Парисович! – с удивительной быстротой поправилась она и, решительно сжав кулачки, заговорила быстро и твердо. Очевидно, не раз воображала себе эту сцену и была к ней готова. – Я хотела тебе… то есть вам написать, но… всё не могла собраться… Это Михаил Антонович. Мой муж. Мы только что вернулись из свадебного путешествия. Ездили на воды, в Кисловодск. Всего на неделю. На больший срок Мишеля не отпустили. Война, а он так нужен на службе! Вы, Алеша, наверное, к маме? А они со Степанидой переехали. Мишель снял им чудную квартирку на Литейном.

Муж слушал и наливался опасным багрянцем. Кажется, басне про маму не поверил.
– Ах, милый, это же Алексей Романов! Я тебе рассказывала! – всё быстрей тараторила Сима, теребя своего Мишеля пальчиками за рукав. – Ну, которому мама так покровительствовала. У него еще баритон. Неужели не помнишь?
Она говорила что-то еще, но бедный, раздавленный Алеша уже не слушал. Он опустил глаза, чтобы не видеть раскрасневшегося от вранья личика своей невесты. Взгляд упал на ее щиколотки, розовевшие в обрамлении туфелек беличьего меха.
Сердце сжалось, в груди будто что-то хрустнуло.
Жизнь была кончена
Когда Мишель, сменив гнев на милость и даже выказав деликатность, вышел из коридора, Сима перешла на шепот, даже прижалась на миг. Губам стало горячо и влажно – то ли поцеловала, то ли слезой капнула. Алеша не разобрал, ибо пребывал в оцепенении.
Жизнь была кончена. В этот черный миг жалеть следовало только об одном – что германский пулемет не оборвал ее на поле у мызы Блюменфельд. Всё, что произошло позднее, два месяца боли и надежд, были ни к чему. Пустой перевод тепловой энергии, кислорода и дефицитного морфия.
Романов вспомнил блаженное ощущение неуязвимости и довольства, накатывавшее после каждого Машенькиного шприца. Вспомнил и саму Машеньку. Но морфий не может заменить реальность. Машенька не может заменить любовь.
Кончено, всё кончено.
Он шел по мокрой мостовой под мелким ноябрьским дождем. Вдоль тротуарных бровок густо лежали мертвые листья. Как тела в линялых гимнастерках на расстрелянном поле. Не повезло. Не повезло…
Когда первое потрясение ослабело, Алеша по математической привычке просчитал варианты решения.
В армию не возьмут. Кому он, однорукий, нужен? Комиссован вчистую.
Вернуться в университет? Невозможно. Какие могут быть лекции и экзамены после Блюменфельда? Какая к черту математика? Мир бессмысленно жесток, любая попытка его рационализировать, научно объяснить – подлость и шарлатанство.
Уехать к отцу в Сестрорецк? Там другая жена, другие дети. Не нужен им Алексей Романов, да и они ему не нужны.
Варианты были перебраны более для проформы. Разбитое сердце знало правильный ответ заранее. Он оказывался единственно верным.
Вчистую так вчистую. Отличное слово.
Грязь, слякоть, ноябрь, предательство, физическая и духовная мука пускай остаются здесь. Без нас.
Как? – спросил себя разом повеселевший Алеша.
Очень просто.
А «Капитал»-то на что?
Смертоносная книга
Марксов «Капитал» стоял на том же месте, только пылью покрылся – и то исключительно из-за почтительности горничной-чухонки, которая знала, что Алексей Парисович не одобряет, когда тряпка или щетка касаются его письменного стола или книжных полок.
Ирма Урховна была славная, на ее аккуратности и обстоятельности держался весь безалаберный дом дяди Жоржа. В тощие дни, когда старый оболтус спускал в карты все деньги, Ирма прибегала к крайнему средству – отпирала свой заветный сундучок, в котором хранились деньги, отложенные на похороны. Баба она была еще не старая, исключительно крепкого здоровья, но любила повторять: «Если сто, Ирма сама са себя плятит, перет лютьми стыдно не путет». Потом, восстановив кредитоспособность, Георгий Степанович возвращал долг с лихвой. Лихва тоже откладывалась во имя грядущего скорбного торжества. Денег в сундучке, наверное, уже хватило бы на генеральские похороны с лакированным катафалком и духовым оркестром.
Дяди в городе не было. Он заделался видным деятелем патриотического движения, беспрестанно разъезжал по городам и весям, собирая зажигательными речами средства на военный заём.
Вернувшегося воина встретила одна горничная. Оросила слезами и всё повторяла «какой плёхой стал, коза да кости». Сбегала куда-то, принесла платок, на котором все эти дни вышивала ангелов. Они-то, по ее словам, и уберегли «Алёсеньку» от гибели.
Вот единственный человек, который меня ждал, с обидной для Ирмы горечью подумал Романов. Сухо спровадил добрую женщину за дверь и огляделся.
Как уже было сказано, в комнате студента всё осталось по-прежнему. Даже оброненная на пол коленкоровая тетрадочка лежала нетронутой, Ирма подметала пол вокруг нее, а саму писчебумажную принадлежность не потревожила. В тетрадочке наивный студент намеревался вести фронтовой дневник, да позабыл взять из-за поспешности сборов.
Алеша поднял блокнот, вырвал страничку и злобно накалякал карандашом: «А ну вас всех!»
Еще раз обвел взглядом комнату, в которой прожил целых четыре года.
Пианино сверкало черным лаком, как будущий Ирмин катафалк. Играть на инструменте всё равно не пришлось бы. Разве можно тренировать пальцы каучуковым мячиком, если сердце в осколках?
На столе (маленькая садистская деталь) стояла в рамке фотокарточка улыбающейся Симы, супруги мордатого интенданта.
Да, женское сердце загадка. Но пускай ее разгадывают другие.
Без колебаний он снял с полки картонный книжный футляр. На нем было напечатано готическими буквами «Das Kapital», однако фолианта внутри не было. На первом курсе Алеша честно пытался освоить эпохальный труд германского ученого, но не преуспел. В картонке был спрятан пистолет «штейер-пипер», досадное напоминание об еще одном горьком фиаско.
На следующий день после памятной дуэли на брудершафт Романов наведался в дачный лесок и отыскал выпавшую обойму. Ибо как без нее возвращать казенное оружие? Но сдавать пистолет не пришлось. Штабсротмистр Козловский лежал в госпитале, а тут нагрянула мобилизация. Отправляясь на фронт, Алеша спрятал оружие в такое место, куда ни дисциплинированная Ирма, ни равнодушный к ученым книгам дядя нипочем не полезли бы.
Расчет оказался верен.
На ладонь легла маленькая, совсем не тяжелая машинка, таившая в себе ответ на главный вопрос бытия: быть иль не быть.
Ответ был таков: not to be.
Младший унтер-офицер N-ского пехотного полка – это вам не растяпа-студент. В рычажках и кнопках не запутается, магазина на пол не выронит. Одна беда – не так-то просто взвести затвор одной левой.
Яростно ругаясь шепотом, Романов сел поудобнее, зажал пистолет под мышкой. И чуть не всхлипнул от злости. Опять не вышло!
Эврика!
На краю стола в тусклом свете абажура блеснули маленькие тиски. Когда-то, в прежней жизни, у студента Алеши Романова было множество невинных увлечений. Пение. Футбол. Бокс. Выпиливание лобзиком. Самым полезным оказалось последнее.
Вот оно, решение задачи. Зажать кончик ствола, затвор дернуть левой рукой.
Алеша порывисто вскочил, и тут, как назло, раздалось: тук-тук-тук!
Кто там еще? Ирма в дверь никогда не стучит, это кажется ей неделикатным. Скребет ногтем и спрашивает: «Мозьно?»
Не откликаться, не открывать!
Всех к черту!
Дверная рукоятка качнулась. Створка скрипнула. Проклятье! От волнения он забыл запереться!
Алеша еле успел положить «пипер» на стол и прикрыть батистовым платком, сплошь расшитым ангелочками.
Явление Ангела-Спасителя
Высокая, плечистая фигура, вдоль и поперек перехваченная скрипучими ремнями, заняла собою весь проем.
– Ну-ка, ну-ка, покажитесь! Что это вы в сумерках? Где тут выключатель? – Вспыхнула люстра, и штабс-ротмистр Козловский предстал перед бывшим соратником во всей гвардейской красе: румяный, здоровый, с победительно торчащими усами. – Лычки, боевой крест! Герой! Я вас, Романов, обыскался. Хотел из полка вытребовать – говорят, в госпитале. Я в госпиталь – выписан. Ну, я сюда, по старой памяти. И застал! Повезло! Как рука? – заботливо нахмурился князь, обнимая Алешу только с одной, левой стороны. – Срослась?
Постная физиономия могла вызвать ненужные расспросы, поэтому Романов изо всех сил растянул губы в улыбке.
– Здравствуйте, Лавр Константинович. Кости-то ничего, вот сухожилия… Пальцы не слушаются.
– Э, голуба, мячик жать надо, гуттаперчевый, я вам подарю.
Козловский сел на стул, положил фуражку прямо рядом с ненадежно замаскированным пистолетом.
– Мячик есть. Вы сами-то как? Поправились? – поспешно спросил Алеша, заходя с другой стороны, чтобы собеседник повернул к нему голову.
– Здоровей прежнего. – Князь с любопытством разглядывал молодого человека. – Дыра в кишках – ерунда, зарастает в два счета, это вам не сухожилие. Доктора говорят, мне теперь коньяку нельзя, плохо будет. Но это они врут, я проверял. Очень даже хорошо. Читал в газете про ваш подвиг. Герой! А почему лицо кислое? В чем дело?

Контрразведчик есть контрразведчик, перед таким притворяться бессмысленно.
Убрав с лица фальшивую улыбку, Романов небрежно обронил:
– Так… Невеста замуж вышла. В смысле, за другого… Трех месяцев не прождала.
– Та, блондиночка? – кивнул штабс-ротмистр. – Ну и черт с ней. На что вам невеста, которая ждать не умеет? А не дай Бог, женились бы? Еще хуже бы вышло. Радоваться надо, что спас Господь.
Он хлопнул Алешу по здоровому плечу и подмигнул:
– Будет вам. Что нос повесили? Не стреляться же из-за дуры! – Еще и засмеялся, солдафон. – Сейчас такие времена, найдется, кому в нас пострелять.
Он подождал, не скажет ли что-нибудь на это собеседник. Не дождался. Тогда прищурился и сменил тон с веселого на деловитый.
– Его превосходительство помните? Кофе с булочкой? Погнали к черту. Он и в мирное-то время был не орел, а как война началась, вовсе потерялся. Отправлен назад, в полицию. Бдить за марксистами. – Штабсротмистр покосился на футляр от «Дас Капитала» и наморщил нос. – Ну туда ему и дорога. А у нас новый шеф, генерал Жуковский. Толковый, одно удовольствие служить. Причем разведку и контрразведку решено объединить под общим руководством. Так что все вместе работаем.
Алеша ахал, двигал бровями, вставлял односложные слова – в общем, изображал заинтересованность. Нужно было дотерпеть, дождаться, пока старый знакомец уйдет.
Но князь, похоже, никуда не торопился. Закурил папиросу, откинулся назад, пристроил хромую ногу поудобнее.
– А я к вам по делу. Вы мне очень нужны. Сколько времени на поиски потратил!
По какому еще делу, тоскливо подумалось без пяти минут самоубийце. Долго ты меня мучить будешь, дьявол колченогий? Изыди!
– Хотите Родине пользу принести? – интригующим тоном спросил Козловский. – Гораздо большую, чем в окопе?
– С окопами всё. – Романов кивнул на раненую руку. – Комиссован вчистую.
– Тем более! Тут такое дело… – Штабс-ротмистр весь подался в Алешину сторону и понизил голос. – Шерлок Холмс, Монте-Кристо и Нат Пинкертон в одной шкатулке. Я сразу про вас вспомнил. Во-первых, отлично на том деле поработали…
Алеша скривился – воспоминание было не из приятных.
– …А во-вторых, у вас, сколько я помню, хороший тенор?
– Баритон.
– Неважно. Талант в землю зарывать – грех. Готовы послужить отечеству, георгиевский кавалер?
– Готов, – вяло ответил кавалер.
А что было отвечать: «Не готов, я покидаю ваше отечество ради Отечества Небесного»? При чем тут талант и баритон, даже спрашивать не стал. Неинтересно.
– Вы извините, Лавр Константинович, рука что-то разнылась… Давайте после поговорим.
Но от штабс-ротмистра так просто было не отвязаться.
Он поднялся, потянул молодого человека за локоть из комнаты.
В прихожей накинул ему на плечи шинель, нахлобучил фуражку.
– А раз готовы, так едемте. Время дорого. Такое расскажу – враз о ране позабудете.
От этакого напора Романов опешил, да и не в том он сейчас был состоянии, чтобы отбиваться. Бубнил что-то про усталость, про руку, но князь не слушал.
Уже на лестнице Козловский хлопнул себя по лбу, рассмеялся.
– Вас-то одел, а сам с непокрытой головой. Я сейчас!
Быстро проковылял назад в комнату, взял со стола забытую фуражку. Потом, воровато оглянувшись, приподнял платок. Поцокал языком.
Вынув из пистолета обойму, князь спрятал ее в карман и снова прикрыл оружие батистом.
litportal.ru
Читать онлайн книгу Мука разбитого сердца

сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Назад к карточке книгиБорис АкунинМука разбитого сердца

Подвиг вольноопределяющегося
В первый же день мобилизации студент Алексей Романов отправился на призывной пункт и записался добровольцем в действующую армию. Побудительным мотивом был не патриотизм, а самобичевание: смыть кровью ужасную вину за проваленную операцию. Еще лучше – пасть на поле брани, потому что в жилах одного человека не достанет крови, чтобы искупить ошибку такого масштаба.
Студентов на службу брали неохотно, армейское командование было уверено, что побьет тевтонов силами одной регулярной армии, однако Алеше повезло. В N-ском пехотном полку, формировавшемся из запасных Санкт-Петербургской губернии, был недокомплект писарей. Посему Романов получил погоны с витым шнурком и был зачислен в штаб оператором пишущих машин. Однако при «ундервуде» студент состоял недолго.
В первом же серьезном бою, у восточнопрусской мызы Блюменфельд, едва лишь батарея начала артподготовку, вольноопределяющийся сбежал на передовую линию. Он боялся только одного – что турнут обратно. Но офицеры были ему рады – и командир роты, и субалтерн Шольц, очень славный веснушчатый подпоручик одного с Алешей возраста. Пожали храбрецу руку, выдали винтовку, показали, как примкнуть штык.
Когда капитан заливисто дунул в свисток и отчаянным голосом крикнул «Ура, братцы! Вперед!», Алеша зачем-то посмотрел на часы (было ровно девять утра) и прыгнул из окопа на поле, будто в прорубь на Крещенье.
Он несся огромными прыжками. Потом оглянулся, увидел, что здорово оторвался от роты, и стал бежать потише.
Спереди, со стороны кустарника, начали стрелять, воздух наполнился шипением и разбойничьим свистом. Это пули, понял Романов. Представил, как раскаленный кусок свинца попадает в живот, зажмурился и тоже стал орать «Ура-а-а!». Но кричать и бежать было трудно – не хватало дыхания. Глаза же и вовсе закрывать не следовало. Вольноопределяющийся споткнулся о торчащий из земли сук и упал, а когда поднялся, впереди были сплошь спины в линялых гимнастерках.
Та-та-та-та-та! – с радостным ожесточением ударил пулемет. Вокруг все закричали, но не «Ура!», а «Мама!» или по-матерному. Все вдруг побежали гораздо медленнее. Многие стали падать. Кое-кто повернул назад. У этих, которые повернули и теперь оказались к Алеше лицом, были вытаращенные, остановившиеся глаза и разинутые рты.
Сплошная стена гимнастерок, заслонявшая поле, проредилась. Романов снова оказался впереди всех. Капитана не было видно, в свисток больше никто не дул. Зато Шольца студент увидел совсем близко. Подпоручик лежал ничком, отбросив руку в перчатке.
– Вы что, ребята, вы что?! – закричал Алеша бегущим.
Только в этот миг ему стало по-настоящему страшно. Если все побегут, то и ему придется. Тогда пуля попадет не в грудь, а в спину. Хороша будет смерть храбрых!
Он замахал винтовкой, повернув назад одну только голову.
– Ребята, вперед! Немножко осталось! Вон они, кусты!
«Совсем как Болконский при Аустерлице», мелькнуло в голове у Романова.
Только за князем Болконским солдаты побежали, а за Алешей никто. Он остался торчать посреди пустого пространства один.

Вперед бежать было глупо, в плен попадешь. Назад – немыслимо.
Неизвестно, чем бы закончилась эта невозможная ситуация, если б не германская пуля, попавшая-таки в Алешу. Не в грудь и, слава Богу, не в спину. В руку.
Как будто кто-то с размаху ударил железным ломом пониже правого локтя. Было не столько больно, сколько горячо, и вся рука до плеча разом онемела. От толчка Романов крутанулся на месте, упал.
Понял: ранен. И опять зачем-то посмотрел на часы. Очевидно, сработала подсознательная реакция – ухватиться за нечто незыблемое и логическое в сошедшей с ума реальности.
Но оказывается, время тоже окоченело от ужаса. Циферблат показывал все те же девять часов. Атака не продлилась и одной минуты.
Неимоверное облегчение – вот чувство, с которым Алеша, пригнувшись, бежал назад. Винтовку волочил по траве за ремень. Немцы по раненому не стреляли.
Доковылял до окопа, упал на руки солдат и лишь тогда, опять-таки с облегчением, лишился чувств.
С героями на германском фронте в эти мрачные сентябрьские дни было скудно. Бездарную атаку на пулеметы по открытому полю в рапорте представили как богатырский порыв. Раненого студента представили к унтер-офицерскому чину, наградили крестом, а еще поместили в газете Севзапфронта заметку «Подвиг вольноопределяющегося», которую потом перепечатали и в столицах.
Из публикации Романов узнал, что он с огнем в глазах и кличем «За Русь-матушку!», увлек роту в геройскую штыковую атаку после выбытия из строя всех офицеров. Про то, что рота не очень-то увлеклась, а до штыков вовсе не дошло, в статейке упомянуто не было.
Вопрос о том, смыл ли он вину кровью, для Алеши так и остался открытым. По правде говоря, ему было не до моральных терзаний – хватало физических. Восьмимиллиметровая пуля германского «машиненгевера» перебила кости предплечья. Измученный беспрерывными операциями хируг поначалу хотел отчикать растерзанную конечность, потому что ампутация занимает пятнадцать минут, а, если вычищать осколки кости да сшивать сухожилия, это возни часа на два. Но узнал, что студент – и пожалел. Повезло Алеше, остался при руке.
Проку от нее, честно сказать, было мало. Одна мука. Рука двигаться не двигалась, но исторгала невероятное количество гноя и адски саднила, а обезболивающие уколы в отделении для нижних чинов делали лишь самым тяжелым. Чтобы не выть в голос, Романов распевал нудные, тягучие романсы Абазы. Тем и спасся.
У кровати бледного героя стали задерживаться сестрички милосердия. Слушали с затуманенным взором, вздыхали, иные и плакали. Одна повязку не в очередь сменит, другая лоб уксусом протрет, а некая Машенька даже потихоньку таскала из операционной шприцы с морфием. Так Алеша и пережил первые три недели, потом стало легче. Лихорадка спáла, боли прошли.
В госпиталь приехал генерал, прицепил герою прямо на пижаму сияющий солдатский «Георгий». Алеша спел на Покровском концерте, после чего был перемещен в офицерскую палату. Жизнь понемногу вновь обретала краски.
Но были и поводы для огорчения, числом два.
Во-первых, не слушалась рука. Кисть еще так-сяк шевелилась, а пальцы ни в какую, и старший ординатор на вопрос о перспективах лишь качал головой. Было очень похоже, что ни водить авто, ни играть на фортепьяно студенту Романову больше не доведется.
Меньшее (но тоже нешуточное) огорчение возникло из-за милосердной Машеньки. Как известно, в женском сердце от милосердия до любви дистанция самая крохотная. А девушка была смелая, с характером – даром что ли на войну ушла – и повела себя на манер пушкинской героини, то есть своих чувств скрывать не стала.
В случаях, когда нужно ответить на страстное признание отказом, мужчине приходится куда труднее, чем женщине. Обычаи и привычки общества таковы, что, оказавшись в положении Иосифа Прекрасного, бегущего ласк жены Потифара, молодой человек выглядит довольно комично и даже жалко. Особенно если тут еще примешивается долг живейшей благодарности и симпатия, ибо Машенька была, хоть не красавица, но очень и очень мила.
В конце концов обошлось. Алеша поступил немножко жестоко, но честно: рассказал про Симу, и Машенька, благородная душа, поняла. Даже предложила, что будет под Алешину диктовку писать счастливой сопернице письма, однако это было бы уже чересчур.
После ранения Романов невесте ни разу не написал, да и от нее весточек не было. Последнее неудивительно, поскольку госпиталь несколько раз переезжал с места на место. Сам же он не мог держать перо, а потом, когда кое-как обучился карябать левой, подумал, что эффектнее будет заявиться лично. Наверняка Сима читала про геройство вольноопределяющегося в газете, места себе от тревоги не находит. Тут-то он и объявится: с крестом, с лычками, с рукой на черном платке.
Через восемь недель после ранения младший унтер-офицер А.П.Романов был выписан в бессрочный отпуск и отбыл в Санкт-Петербург.
При трогательном расставании получил от Машеньки закапанную слезами инструкцию с рисуночками (как разрабатывать руку, чтоб не сохла) и маленький каучуковый мячик – тренировать пальцы.
Фронтовая карьера добровольца была закончена.
Возвращение героя
Однажды ноябрьскими сумерками на крыльцо маленького, знававшего лучшие времена особнячка у Невской заставы поднялся увечный защитник отечества в накинутой на плечи шинели. Встал перед медным колокольчиком, но позвонил в него не сразу, а минут через пять.
Сначала поставил чемоданчик и продел левую руку в рукав, правое же плечо шинели отвел подальше, чтоб было видно черную перевязь. Подумав немного, раскрыл пошире и левый отворот – там блеснул георгиевский крест. Поправил фуражку. Посмотрелся в маленькое зеркальце и, кажется, остался собою доволен. Взволнованное лицо просияло улыбкой.
Не может быть, чтобы Симочка долго сердилась на раненого героя. Ну да, ушел на фронт не попрощавшись, написал уже из эшелона. И после ранения не давал о себе знать. Но ведь не к цыганам на острова ездил – Родину защищал. И вернулся со щитом. То есть, собственно, даже на щите. Если учитывать тяжкое ранение.
Главное ни в коем случае не оправдываться. Просто сказать: «Любимая, это я». Или еще лучше: «Господи, как я по тебе соскучился».
Охваченный новым приступом волнения, он дернул за язычок. Колокольчик зазвонил громко и страстно.
Хорошо бы открыла не горничная, а сама Симочка. Но лучше горничная, чем матушка Антония Николаевна. Она Алеше никогда не симпатизировала.
– Глашка, звонят! Открой! – донесся откуда-то из глубин дома звучный мужской голос. – Глафира! Где она? Что за черт?
Точно такой же вопрос возник и у Алеши. Что за черт? Какой такой крикун распоряжается в доме Чегодаевых?
Послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась.
На пороге стоял усатый субъект в самом что ни на есть затрапезном виде. На волосах сеточка, на груди салфетка, одет в бархатную куртку, ноги в домашних туфлях. Судя по цвету канта на форменных брюках, офицер интендантского ведомства.
Увидев перед собой нижнего чина, непонятный человек рассердился:
– Что трезвонишь, болван? Для хамья есть черный ход! А расхристался-то! – Взгляд грозно упал на раскрытую шинель. Наверняка заметил и руку на перевязи, и крест, но не смягчился, а совсем наоборот. – Еще кавалер! Стыдно!
– Что за тон, милостивый государь! – вспыхнул Романов, благо наглец был не в кителе, а офицерских брюк раненый герой мог и не заметить.
Незнакомец услышал «милостивого государя», разглядел шнурок по краю погона и сменил тон:
– А, вольнопер, – снисходительно пробасил он. – Извиняюсь. Не разглядел. Вам кого?
У Алеши сжалось сердце. Съехали! Вот и горничная не злющая мымра Степанида, а какая-то неведомая Глашка.
– Я к Серафиме Александровне Чегодаевой… Они что, тут больше не живут?
Офицер чуть нахмурился. Невежливо ответил вопросом на вопрос:
– Вы, собственно, кто?
– Романов, Алексей Парисович.
Вдруг Алешу осенило. Антония Николаевна рассказывала про какого-то своего двоюродного племянника.
– А вы, наверно, Симочкин кузен из Тулы? – заулыбался молодой человек. – Антония Николаевна говорила, что вы артиллерист. Наверно, перепутала. Знаете, женщинам всё едино…
– «Симочкин»? – повторил интендант голосом, который не предвещал ничего хорошего. – Однако… Я не кузен и в Туле отродясь не бывал. – Обернувшись, загадочный господин крикнул. – Лапусик! К тебе какой-то господин Рубанов!
– Романов, – смертельно побледнев, пролепетал Алеша.
Ему показалось, что в прихожей вдруг стало темно, а стены будто качнулись и стиснули коридор, который сделался похож на мрачное, бесприютное ущелье.
Но раскрылась белая дверь, из нее хлынул яркий электрический свет. В дверном проеме стояла Симочка в красном шелковом халате и папильотках.
Она увидела гостя, сразу всё поняла и схватилась за сердце.
– Ах! Алеша… То есть Алексей Парисович! – с удивительной быстротой поправилась она и, решительно сжав кулачки, заговорила быстро и твердо. Очевидно, не раз воображала себе эту сцену и была к ней готова. – Я хотела тебе… то есть вам написать, но… всё не могла собраться… Это Михаил Антонович. Мой муж. Мы только что вернулись из свадебного путешествия. Ездили на воды, в Кисловодск. Всего на неделю. На больший срок Мишеля не отпустили. Война, а он так нужен на службе! Вы, Алеша, наверное, к маме? А они со Степанидой переехали. Мишель снял им чудную квартирку на Литейном.

Муж слушал и наливался опасным багрянцем. Кажется, басне про маму не поверил.
– Ах, милый, это же Алексей Романов! Я тебе рассказывала! – всё быстрей тараторила Сима, теребя своего Мишеля пальчиками за рукав. – Ну, которому мама так покровительствовала. У него еще баритон. Неужели не помнишь?
Она говорила что-то еще, но бедный, раздавленный Алеша уже не слушал. Он опустил глаза, чтобы не видеть раскрасневшегося от вранья личика своей невесты. Взгляд упал на ее щиколотки, розовевшие в обрамлении туфелек беличьего меха.
Сердце сжалось, в груди будто что-то хрустнуло.
Жизнь была кончена
Когда Мишель, сменив гнев на милость и даже выказав деликатность, вышел из коридора, Сима перешла на шепот, даже прижалась на миг. Губам стало горячо и влажно – то ли поцеловала, то ли слезой капнула. Алеша не разобрал, ибо пребывал в оцепенении.
Жизнь была кончена. В этот черный миг жалеть следовало только об одном – что германский пулемет не оборвал ее на поле у мызы Блюменфельд. Всё, что произошло позднее, два месяца боли и надежд, были ни к чему. Пустой перевод тепловой энергии, кислорода и дефицитного морфия.
Романов вспомнил блаженное ощущение неуязвимости и довольства, накатывавшее после каждого Машенькиного шприца. Вспомнил и саму Машеньку. Но морфий не может заменить реальность. Машенька не может заменить любовь.
Кончено, всё кончено.
Он шел по мокрой мостовой под мелким ноябрьским дождем. Вдоль тротуарных бровок густо лежали мертвые листья. Как тела в линялых гимнастерках на расстрелянном поле. Не повезло. Не повезло…
Когда первое потрясение ослабело, Алеша по математической привычке просчитал варианты решения.
В армию не возьмут. Кому он, однорукий, нужен? Комиссован вчистую.
Вернуться в университет? Невозможно. Какие могут быть лекции и экзамены после Блюменфельда? Какая к черту математика? Мир бессмысленно жесток, любая попытка его рационализировать, научно объяснить – подлость и шарлатанство.
Уехать к отцу в Сестрорецк? Там другая жена, другие дети. Не нужен им Алексей Романов, да и они ему не нужны.
Варианты были перебраны более для проформы. Разбитое сердце знало правильный ответ заранее. Он оказывался единственно верным.
Вчистую так вчистую. Отличное слово.
Грязь, слякоть, ноябрь, предательство, физическая и духовная мука пускай остаются здесь. Без нас.
Как? – спросил себя разом повеселевший Алеша.
Очень просто.
А «Капитал»-то на что?
Смертоносная книга
Марксов «Капитал» стоял на том же месте, только пылью покрылся – и то исключительно из-за почтительности горничной-чухонки, которая знала, что Алексей Парисович не одобряет, когда тряпка или щетка касаются его письменного стола или книжных полок.
Ирма Урховна была славная, на ее аккуратности и обстоятельности держался весь безалаберный дом дяди Жоржа. В тощие дни, когда старый оболтус спускал в карты все деньги, Ирма прибегала к крайнему средству – отпирала свой заветный сундучок, в котором хранились деньги, отложенные на похороны. Баба она была еще не старая, исключительно крепкого здоровья, но любила повторять: «Если сто, Ирма сама са себя плятит, перет лютьми стыдно не путет». Потом, восстановив кредитоспособность, Георгий Степанович возвращал долг с лихвой. Лихва тоже откладывалась во имя грядущего скорбного торжества. Денег в сундучке, наверное, уже хватило бы на генеральские похороны с лакированным катафалком и духовым оркестром.
Дяди в городе не было. Он заделался видным деятелем патриотического движения, беспрестанно разъезжал по городам и весям, собирая зажигательными речами средства на военный заём.
Вернувшегося воина встретила одна горничная. Оросила слезами и всё повторяла «какой плёхой стал, коза да кости». Сбегала куда-то, принесла платок, на котором все эти дни вышивала ангелов. Они-то, по ее словам, и уберегли «Алёсеньку» от гибели.
Вот единственный человек, который меня ждал, с обидной для Ирмы горечью подумал Романов. Сухо спровадил добрую женщину за дверь и огляделся.
Как уже было сказано, в комнате студента всё осталось по-прежнему. Даже оброненная на пол коленкоровая тетрадочка лежала нетронутой, Ирма подметала пол вокруг нее, а саму писчебумажную принадлежность не потревожила. В тетрадочке наивный студент намеревался вести фронтовой дневник, да позабыл взять из-за поспешности сборов.
Алеша поднял блокнот, вырвал страничку и злобно накалякал карандашом: «А ну вас всех!»
Еще раз обвел взглядом комнату, в которой прожил целых четыре года.
Пианино сверкало черным лаком, как будущий Ирмин катафалк. Играть на инструменте всё равно не пришлось бы. Разве можно тренировать пальцы каучуковым мячиком, если сердце в осколках?
На столе (маленькая садистская деталь) стояла в рамке фотокарточка улыбающейся Симы, супруги мордатого интенданта.
Да, женское сердце загадка. Но пускай ее разгадывают другие.
Без колебаний он снял с полки картонный книжный футляр. На нем было напечатано готическими буквами «Das Kapital», однако фолианта внутри не было. На первом курсе Алеша честно пытался освоить эпохальный труд германского ученого, но не преуспел. В картонке был спрятан пистолет «штейер-пипер», досадное напоминание об еще одном горьком фиаско.
На следующий день после памятной дуэли на брудершафт Романов наведался в дачный лесок и отыскал выпавшую обойму. Ибо как без нее возвращать казенное оружие? Но сдавать пистолет не пришлось. Штабсротмистр Козловский лежал в госпитале, а тут нагрянула мобилизация. Отправляясь на фронт, Алеша спрятал оружие в такое место, куда ни дисциплинированная Ирма, ни равнодушный к ученым книгам дядя нипочем не полезли бы.
Расчет оказался верен.
На ладонь легла маленькая, совсем не тяжелая машинка, таившая в себе ответ на главный вопрос бытия: быть иль не быть.
Ответ был таков: not to be.
Младший унтер-офицер N-ского пехотного полка – это вам не растяпа-студент. В рычажках и кнопках не запутается, магазина на пол не выронит. Одна беда – не так-то просто взвести затвор одной левой.
Яростно ругаясь шепотом, Романов сел поудобнее, зажал пистолет под мышкой. И чуть не всхлипнул от злости. Опять не вышло!
Эврика!
На краю стола в тусклом свете абажура блеснули маленькие тиски. Когда-то, в прежней жизни, у студента Алеши Романова было множество невинных увлечений. Пение. Футбол. Бокс. Выпиливание лобзиком. Самым полезным оказалось последнее.
Вот оно, решение задачи. Зажать кончик ствола, затвор дернуть левой рукой.
Алеша порывисто вскочил, и тут, как назло, раздалось: тук-тук-тук!
Кто там еще? Ирма в дверь никогда не стучит, это кажется ей неделикатным. Скребет ногтем и спрашивает: «Мозьно?»
Не откликаться, не открывать!
Всех к черту!
Дверная рукоятка качнулась. Створка скрипнула. Проклятье! От волнения он забыл запереться!
Алеша еле успел положить «пипер» на стол и прикрыть батистовым платком, сплошь расшитым ангелочками.
Явление Ангела-Спасителя
Высокая, плечистая фигура, вдоль и поперек перехваченная скрипучими ремнями, заняла собою весь проем.
– Ну-ка, ну-ка, покажитесь! Что это вы в сумерках? Где тут выключатель? – Вспыхнула люстра, и штабс-ротмистр Козловский предстал перед бывшим соратником во всей гвардейской красе: румяный, здоровый, с победительно торчащими усами. – Лычки, боевой крест! Герой! Я вас, Романов, обыскался. Хотел из полка вытребовать – говорят, в госпитале. Я в госпиталь – выписан. Ну, я сюда, по старой памяти. И застал! Повезло! Как рука? – заботливо нахмурился князь, обнимая Алешу только с одной, левой стороны. – Срослась?
Постная физиономия могла вызвать ненужные расспросы, поэтому Романов изо всех сил растянул губы в улыбке.
– Здравствуйте, Лавр Константинович. Кости-то ничего, вот сухожилия… Пальцы не слушаются.
– Э, голуба, мячик жать надо, гуттаперчевый, я вам подарю.
Козловский сел на стул, положил фуражку прямо рядом с ненадежно замаскированным пистолетом.
– Мячик есть. Вы сами-то как? Поправились? – поспешно спросил Алеша, заходя с другой стороны, чтобы собеседник повернул к нему голову.
– Здоровей прежнего. – Князь с любопытством разглядывал молодого человека. – Дыра в кишках – ерунда, зарастает в два счета, это вам не сухожилие. Доктора говорят, мне теперь коньяку нельзя, плохо будет. Но это они врут, я проверял. Очень даже хорошо. Читал в газете про ваш подвиг. Герой! А почему лицо кислое? В чем дело?

Контрразведчик есть контрразведчик, перед таким притворяться бессмысленно.
Убрав с лица фальшивую улыбку, Романов небрежно обронил:
– Так… Невеста замуж вышла. В смысле, за другого… Трех месяцев не прождала.
– Та, блондиночка? – кивнул штабс-ротмистр. – Ну и черт с ней. На что вам невеста, которая ждать не умеет? А не дай Бог, женились бы? Еще хуже бы вышло. Радоваться надо, что спас Господь.
Он хлопнул Алешу по здоровому плечу и подмигнул:
– Будет вам. Что нос повесили? Не стреляться же из-за дуры! – Еще и засмеялся, солдафон. – Сейчас такие времена, найдется, кому в нас пострелять.
Он подождал, не скажет ли что-нибудь на это собеседник. Не дождался. Тогда прищурился и сменил тон с веселого на деловитый.
– Его превосходительство помните? Кофе с булочкой? Погнали к черту. Он и в мирное-то время был не орел, а как война началась, вовсе потерялся. Отправлен назад, в полицию. Бдить за марксистами. – Штабсротмистр покосился на футляр от «Дас Капитала» и наморщил нос. – Ну туда ему и дорога. А у нас новый шеф, генерал Жуковский. Толковый, одно удовольствие служить. Причем разведку и контрразведку решено объединить под общим руководством. Так что все вместе работаем.
Алеша ахал, двигал бровями, вставлял односложные слова – в общем, изображал заинтересованность. Нужно было дотерпеть, дождаться, пока старый знакомец уйдет.
Но князь, похоже, никуда не торопился. Закурил папиросу, откинулся назад, пристроил хромую ногу поудобнее.
– А я к вам по делу. Вы мне очень нужны. Сколько времени на поиски потратил!
По какому еще делу, тоскливо подумалось без пяти минут самоубийце. Долго ты меня мучить будешь, дьявол колченогий? Изыди!
– Хотите Родине пользу принести? – интригующим тоном спросил Козловский. – Гораздо большую, чем в окопе?
– С окопами всё. – Романов кивнул на раненую руку. – Комиссован вчистую.
– Тем более! Тут такое дело… – Штабс-ротмистр весь подался в Алешину сторону и понизил голос. – Шерлок Холмс, Монте-Кристо и Нат Пинкертон в одной шкатулке. Я сразу про вас вспомнил. Во-первых, отлично на том деле поработали…
Алеша скривился – воспоминание было не из приятных.
– …А во-вторых, у вас, сколько я помню, хороший тенор?
– Баритон.
– Неважно. Талант в землю зарывать – грех. Готовы послужить отечеству, георгиевский кавалер?
– Готов, – вяло ответил кавалер.
А что было отвечать: «Не готов, я покидаю ваше отечество ради Отечества Небесного»? При чем тут талант и баритон, даже спрашивать не стал. Неинтересно.
– Вы извините, Лавр Константинович, рука что-то разнылась… Давайте после поговорим.
Но от штабс-ротмистра так просто было не отвязаться.
Он поднялся, потянул молодого человека за локоть из комнаты.
В прихожей накинул ему на плечи шинель, нахлобучил фуражку.
– А раз готовы, так едемте. Время дорого. Такое расскажу – враз о ране позабудете.
От этакого напора Романов опешил, да и не в том он сейчас был состоянии, чтобы отбиваться. Бубнил что-то про усталость, про руку, но князь не слушал.
Уже на лестнице Козловский хлопнул себя по лбу, рассмеялся.
– Вас-то одел, а сам с непокрытой головой. Я сейчас!
Быстро проковылял назад в комнату, взял со стола забытую фуражку. Потом, воровато оглянувшись, приподнял платок. Поцокал языком.
Вынув из пистолета обойму, князь спрятал ее в карман и снова прикрыл оружие батистом.
Назад к карточке книги "Мука разбитого сердца"itexts.net
Мука разбитого сердца. Автор - Акунин Борис. Содержание - Жизнь была кончена
Через восемь недель после ранения младший унтер-офицер А.П.Романов был выписан в бессрочный отпуск и отбыл в Санкт-Петербург.
При трогательном расставании получил от Машеньки закапанную слезами инструкцию с рисуночками (как разрабатывать руку, чтоб не сохла) и маленький каучуковый мячик – тренировать пальцы.
Фронтовая карьера добровольца была закончена.
Возвращение героя
Однажды ноябрьскими сумерками на крыльцо маленького, знававшего лучшие времена особнячка у Невской заставы поднялся увечный защитник отечества в накинутой на плечи шинели. Встал перед медным колокольчиком, но позвонил в него не сразу, а минут через пять.
Сначала поставил чемоданчик и продел левую руку в рукав, правое же плечо шинели отвел подальше, чтоб было видно черную перевязь. Подумав немного, раскрыл пошире и левый отворот – там блеснул георгиевский крест. Поправил фуражку. Посмотрелся в маленькое зеркальце и, кажется, остался собою доволен. Взволнованное лицо просияло улыбкой.
Не может быть, чтобы Симочка долго сердилась на раненого героя. Ну да, ушел на фронт не попрощавшись, написал уже из эшелона. И после ранения не давал о себе знать. Но ведь не к цыганам на острова ездил – Родину защищал. И вернулся со щитом. То есть, собственно, даже на щите. Если учитывать тяжкое ранение.
Главное ни в коем случае не оправдываться. Просто сказать: «Любимая, это я». Или еще лучше: «Господи, как я по тебе соскучился».
Охваченный новым приступом волнения, он дернул за язычок. Колокольчик зазвонил громко и страстно.
Хорошо бы открыла не горничная, а сама Симочка. Но лучше горничная, чем матушка Антония Николаевна. Она Алеше никогда не симпатизировала.
– Глашка, звонят! Открой! – донесся откуда-то из глубин дома звучный мужской голос. – Глафира! Где она? Что за черт?
Точно такой же вопрос возник и у Алеши. Что за черт? Какой такой крикун распоряжается в доме Чегодаевых?
Послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась.
На пороге стоял усатый субъект в самом что ни на есть затрапезном виде. На волосах сеточка, на груди салфетка, одет в бархатную куртку, ноги в домашних туфлях. Судя по цвету канта на форменных брюках, офицер интендантского ведомства.
Увидев перед собой нижнего чина, непонятный человек рассердился:
– Что трезвонишь, болван? Для хамья есть черный ход! А расхристался-то! – Взгляд грозно упал на раскрытую шинель. Наверняка заметил и руку на перевязи, и крест, но не смягчился, а совсем наоборот. – Еще кавалер! Стыдно!
– Что за тон, милостивый государь! – вспыхнул Романов, благо наглец был не в кителе, а офицерских брюк раненый герой мог и не заметить.
Незнакомец услышал «милостивого государя», разглядел шнурок по краю погона и сменил тон:
– А, вольнопер, – снисходительно пробасил он. – Извиняюсь. Не разглядел. Вам кого?
У Алеши сжалось сердце. Съехали! Вот и горничная не злющая мымра Степанида, а какая-то неведомая Глашка.
– Я к Серафиме Александровне Чегодаевой… Они что, тут больше не живут?
Офицер чуть нахмурился. Невежливо ответил вопросом на вопрос:
– Вы, собственно, кто?
– Романов, Алексей Парисович.
Вдруг Алешу осенило. Антония Николаевна рассказывала про какого-то своего двоюродного племянника.
– А вы, наверно, Симочкин кузен из Тулы? – заулыбался молодой человек. – Антония Николаевна говорила, что вы артиллерист. Наверно, перепутала. Знаете, женщинам всё едино…
– «Симочкин»? – повторил интендант голосом, который не предвещал ничего хорошего. – Однако… Я не кузен и в Туле отродясь не бывал. – Обернувшись, загадочный господин крикнул. – Лапусик! К тебе какой-то господин Рубанов!
– Романов, – смертельно побледнев, пролепетал Алеша.
Ему показалось, что в прихожей вдруг стало темно, а стены будто качнулись и стиснули коридор, который сделался похож на мрачное, бесприютное ущелье.
Но раскрылась белая дверь, из нее хлынул яркий электрический свет. В дверном проеме стояла Симочка в красном шелковом халате и папильотках.
Она увидела гостя, сразу всё поняла и схватилась за сердце.
– Ах! Алеша… То есть Алексей Парисович! – с удивительной быстротой поправилась она и, решительно сжав кулачки, заговорила быстро и твердо. Очевидно, не раз воображала себе эту сцену и была к ней готова. – Я хотела тебе… то есть вам написать, но… всё не могла собраться… Это Михаил Антонович. Мой муж. Мы только что вернулись из свадебного путешествия. Ездили на воды, в Кисловодск. Всего на неделю. На больший срок Мишеля не отпустили. Война, а он так нужен на службе! Вы, Алеша, наверное, к маме? А они со Степанидой переехали. Мишель снял им чудную квартирку на Литейном.

Муж слушал и наливался опасным багрянцем. Кажется, басне про маму не поверил.
– Ах, милый, это же Алексей Романов! Я тебе рассказывала! – всё быстрей тараторила Сима, теребя своего Мишеля пальчиками за рукав. – Ну, которому мама так покровительствовала. У него еще баритон. Неужели не помнишь?
Она говорила что-то еще, но бедный, раздавленный Алеша уже не слушал. Он опустил глаза, чтобы не видеть раскрасневшегося от вранья личика своей невесты. Взгляд упал на ее щиколотки, розовевшие в обрамлении туфелек беличьего меха.
Сердце сжалось, в груди будто что-то хрустнуло.
Жизнь была кончена
Когда Мишель, сменив гнев на милость и даже выказав деликатность, вышел из коридора, Сима перешла на шепот, даже прижалась на миг. Губам стало горячо и влажно – то ли поцеловала, то ли слезой капнула. Алеша не разобрал, ибо пребывал в оцепенении.
Жизнь была кончена. В этот черный миг жалеть следовало только об одном – что германский пулемет не оборвал ее на поле у мызы Блюменфельд. Всё, что произошло позднее, два месяца боли и надежд, были ни к чему. Пустой перевод тепловой энергии, кислорода и дефицитного морфия.
Романов вспомнил блаженное ощущение неуязвимости и довольства, накатывавшее после каждого Машенькиного шприца. Вспомнил и саму Машеньку. Но морфий не может заменить реальность. Машенька не может заменить любовь.
Кончено, всё кончено.
Он шел по мокрой мостовой под мелким ноябрьским дождем. Вдоль тротуарных бровок густо лежали мертвые листья. Как тела в линялых гимнастерках на расстрелянном поле. Не повезло. Не повезло…
Когда первое потрясение ослабело, Алеша по математической привычке просчитал варианты решения.
В армию не возьмут. Кому он, однорукий, нужен? Комиссован вчистую.
Вернуться в университет? Невозможно. Какие могут быть лекции и экзамены после Блюменфельда? Какая к черту математика? Мир бессмысленно жесток, любая попытка его рационализировать, научно объяснить – подлость и шарлатанство.
Уехать к отцу в Сестрорецк? Там другая жена, другие дети. Не нужен им Алексей Романов, да и они ему не нужны.
Варианты были перебраны более для проформы. Разбитое сердце знало правильный ответ заранее. Он оказывался единственно верным.
Вчистую так вчистую. Отличное слово.
Грязь, слякоть, ноябрь, предательство, физическая и духовная мука пускай остаются здесь. Без нас.
Как? – спросил себя разом повеселевший Алеша.
Очень просто.
А «Капитал»-то на что?
www.booklot.ru
Мука разбитого сердца. Автор Акунин Борис. Страница 2
Через восемь недель после ранения младший унтер-офицер А.П.Романов был выписан в бессрочный отпуск и отбыл в Санкт-Петербург.
При трогательном расставании получил от Машеньки закапанную слезами инструкцию с рисуночками (как разрабатывать руку, чтоб не сохла) и маленький каучуковый мячик – тренировать пальцы.
Фронтовая карьера добровольца была закончена.
Возвращение героя
Однажды ноябрьскими сумерками на крыльцо маленького, знававшего лучшие времена особнячка у Невской заставы поднялся увечный защитник отечества в накинутой на плечи шинели. Встал перед медным колокольчиком, но позвонил в него не сразу, а минут через пять.
Сначала поставил чемоданчик и продел левую руку в рукав, правое же плечо шинели отвел подальше, чтоб было видно черную перевязь. Подумав немного, раскрыл пошире и левый отворот – там блеснул георгиевский крест. Поправил фуражку. Посмотрелся в маленькое зеркальце и, кажется, остался собою доволен. Взволнованное лицо просияло улыбкой.
Не может быть, чтобы Симочка долго сердилась на раненого героя. Ну да, ушел на фронт не попрощавшись, написал уже из эшелона. И после ранения не давал о себе знать. Но ведь не к цыганам на острова ездил – Родину защищал. И вернулся со щитом. То есть, собственно, даже на щите. Если учитывать тяжкое ранение.
Главное ни в коем случае не оправдываться. Просто сказать: «Любимая, это я». Или еще лучше: «Господи, как я по тебе соскучился».
Охваченный новым приступом волнения, он дернул за язычок. Колокольчик зазвонил громко и страстно.
Хорошо бы открыла не горничная, а сама Симочка. Но лучше горничная, чем матушка Антония Николаевна. Она Алеше никогда не симпатизировала.
– Глашка, звонят! Открой! – донесся откуда-то из глубин дома звучный мужской голос. – Глафира! Где она? Что за черт?
Точно такой же вопрос возник и у Алеши. Что за черт? Какой такой крикун распоряжается в доме Чегодаевых?
Послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась.
На пороге стоял усатый субъект в самом что ни на есть затрапезном виде. На волосах сеточка, на груди салфетка, одет в бархатную куртку, ноги в домашних туфлях. Судя по цвету канта на форменных брюках, офицер интендантского ведомства.
Увидев перед собой нижнего чина, непонятный человек рассердился:
– Что трезвонишь, болван? Для хамья есть черный ход! А расхристался-то! – Взгляд грозно упал на раскрытую шинель. Наверняка заметил и руку на перевязи, и крест, но не смягчился, а совсем наоборот. – Еще кавалер! Стыдно!
– Что за тон, милостивый государь! – вспыхнул Романов, благо наглец был не в кителе, а офицерских брюк раненый герой мог и не заметить.
Незнакомец услышал «милостивого государя», разглядел шнурок по краю погона и сменил тон:
– А, вольнопер, – снисходительно пробасил он. – Извиняюсь. Не разглядел. Вам кого?
У Алеши сжалось сердце. Съехали! Вот и горничная не злющая мымра Степанида, а какая-то неведомая Глашка.
– Я к Серафиме Александровне Чегодаевой… Они что, тут больше не живут?
Офицер чуть нахмурился. Невежливо ответил вопросом на вопрос:
– Вы, собственно, кто?
– Романов, Алексей Парисович.
Вдруг Алешу осенило. Антония Николаевна рассказывала про какого-то своего двоюродного племянника.
– А вы, наверно, Симочкин кузен из Тулы? – заулыбался молодой человек. – Антония Николаевна говорила, что вы артиллерист. Наверно, перепутала. Знаете, женщинам всё едино…
– «Симочкин»? – повторил интендант голосом, который не предвещал ничего хорошего. – Однако… Я не кузен и в Туле отродясь не бывал. – Обернувшись, загадочный господин крикнул. – Лапусик! К тебе какой-то господин Рубанов!
– Романов, – смертельно побледнев, пролепетал Алеша.
Ему показалось, что в прихожей вдруг стало темно, а стены будто качнулись и стиснули коридор, который сделался похож на мрачное, бесприютное ущелье.
Но раскрылась белая дверь, из нее хлынул яркий электрический свет. В дверном проеме стояла Симочка в красном шелковом халате и папильотках.
Она увидела гостя, сразу всё поняла и схватилась за сердце.
– Ах! Алеша… То есть Алексей Парисович! – с удивительной быстротой поправилась она и, решительно сжав кулачки, заговорила быстро и твердо. Очевидно, не раз воображала себе эту сцену и была к ней готова. – Я хотела тебе… то есть вам написать, но… всё не могла собраться… Это Михаил Антонович. Мой муж. Мы только что вернулись из свадебного путешествия. Ездили на воды, в Кисловодск. Всего на неделю. На больший срок Мишеля не отпустили. Война, а он так нужен на службе! Вы, Алеша, наверное, к маме? А они со Степанидой переехали. Мишель снял им чудную квартирку на Литейном.

Муж слушал и наливался опасным багрянцем. Кажется, басне про маму не поверил.
– Ах, милый, это же Алексей Романов! Я тебе рассказывала! – всё быстрей тараторила Сима, теребя своего Мишеля пальчиками за рукав. – Ну, которому мама так покровительствовала. У него еще баритон. Неужели не помнишь?
Она говорила что-то еще, но бедный, раздавленный Алеша уже не слушал. Он опустил глаза, чтобы не видеть раскрасневшегося от вранья личика своей невесты. Взгляд упал на ее щиколотки, розовевшие в обрамлении туфелек беличьего меха.
Сердце сжалось, в груди будто что-то хрустнуло.
Жизнь была кончена
Когда Мишель, сменив гнев на милость и даже выказав деликатность, вышел из коридора, Сима перешла на шепот, даже прижалась на миг. Губам стало горячо и влажно – то ли поцеловала, то ли слезой капнула. Алеша не разобрал, ибо пребывал в оцепенении.
Жизнь была кончена. В этот черный миг жалеть следовало только об одном – что германский пулемет не оборвал ее на поле у мызы Блюменфельд. Всё, что произошло позднее, два месяца боли и надежд, были ни к чему. Пустой перевод тепловой энергии, кислорода и дефицитного морфия.
Романов вспомнил блаженное ощущение неуязвимости и довольства, накатывавшее после каждого Машенькиного шприца. Вспомнил и саму Машеньку. Но морфий не может заменить реальность. Машенька не может заменить любовь.
Кончено, всё кончено.
Он шел по мокрой мостовой под мелким ноябрьским дождем. Вдоль тротуарных бровок густо лежали мертвые листья. Как тела в линялых гимнастерках на расстрелянном поле. Не повезло. Не повезло…
Когда первое потрясение ослабело, Алеша по математической привычке просчитал варианты решения.
В армию не возьмут. Кому он, однорукий, нужен? Комиссован вчистую.
Вернуться в университет? Невозможно. Какие могут быть лекции и экзамены после Блюменфельда? Какая к черту математика? Мир бессмысленно жесток, любая попытка его рационализировать, научно объяснить – подлость и шарлатанство.
Уехать к отцу в Сестрорецк? Там другая жена, другие дети. Не нужен им Алексей Романов, да и они ему не нужны.
Варианты были перебраны более для проформы. Разбитое сердце знало правильный ответ заранее. Он оказывался единственно верным.
Вчистую так вчистую. Отличное слово.
Грязь, слякоть, ноябрь, предательство, физическая и духовная мука пускай остаются здесь. Без нас.
Как? – спросил себя разом повеселевший Алеша.
Очень просто.
А «Капитал»-то на что?
www.booklot.ru
Мука разбитого сердца. Автор - Акунин Борис. Содержание - Горькая тризна
Поскольку кресел было всего два, сели хозяин и Алеша. Штабс-ротмистр скромно пристроился позади Романова. Руки положил на спинку. Вероятно, рассчитывал, что будет незаметно подавать напарнику сигналы, тыча его пальцем в плечо.

– Уважаемый дон, – внушительным тоном начал Алеша, не вполне уверенный, как следует величать собеседника, – синьор Д'Арборио сказал мне, что вы любезно согласились помочь моей стране в весьма деликатном и очень непростом деле…
Старик неторопливым, властным жестом велел ему замолчать – поднял ладонь. Романов споткнулся прямо на середине цветистой фразы.
– Я не привык разговаривать с подчиненным, когда рядом находится начальник, – сказал дон Трапано на скверном французском, глядя своими пронзительными глазами поверх Алешиной головы на Козловского.
– Что, извините? – растерялся Алеша.
Князь хмыкнул.
– Дядька-то непрост. Вставайте, Алексей Парисович. Теперь я посижу.
И они поменялись местами.
– Капитан императорской гвардии князь Козловский, – представился командир, и, невзирая на обтерханный пиджачок, по тону, манере сразу стало видно, что это, действительно, князь и вообще персона значительная. – Я вижу, вы человек дела. Поэтому сразу перейду к сути проблемы. Мы хотим…
– Я знаю, чего вы хотите, – перебил его дон Трапано. Он явно не привык тратить время на лишние разговоры. – И знаю, как вам помочь. Я дам вам лучшего специалиста. Он выполнит основную работу. От вас потребуется две вещи: обеспечить доступ в дом и узнать код. Это всё.
Козловский помолчал, осмысливая сказанное. Остался не удовлетворен. Опасно связываться с человеком, чьи побудительные мотивы неизвестны.
– Скажите, отчего вы решили помочь русской разведке? – спросил он, хоть и помнил, что дону задавать вопросов не полагается. – Неужто из одного уважения к поэзии?
У могущественного человека раздраженно шевельнулась седая бровь, но князь смотрел собеседнику прямо в глаза, и по выражению лица было видно – не отступится.
Дон Трапано кивком дал понять, что уяснил скрытый смысл вопроса: перед ним не просители, а представители великой державы, и разговаривать с ними следует в открытую.
– Скажем так… Мы решили, что война на стороне Антанты будет Италии полезна, – коротко ответил итальянец, слегка выделив слово «мы». – И больше никаких вопросов. Иначе будете решать свою проблему сами. Итак, первое: доступ в дом. Второе: код. Когда будете готовы – сообщите через дотторе Д'Арборио.
– Допустим, мы придумаем, как проникнуть на виллу. Но у Зоммера сильная охрана!
Старик сердито стукнул ладонью по столу и поднялся.
– Повторяю последний раз. Ваша забота: доступ в дом и код.
Двери сами собой распахнулись за спиной у русских. Аудиенция была окончена.
– Тоже мне союзничек, – зло сказал Козловский, когда они выходили. – Умеет только языком трепать! Дон Трепано! Попусту время потратили. Что за код такой? К сейфу, что ли? Если б мы знали код сейфа и могли проникнуть на виллу, на черта нам Мафия? Эх, Алексей Парисович. Бой проигран, и флаг спущен. Завтра доложу резиденту, и домой. С позором…
Настал миг расставанья
Они сидели вдвоем на высоком берегу. Он понурый, несчастный. Она заплаканная, безутешная.
– …Ну вот, я всё тебе и рассказал… Сама видишь, какой из меня разведчик. Мы с тобой выбрали плохое время для любви. Сегодня ночью уезжаю…
А как было не рассказать? Тем более что Клара и так обо всем догадалась – еще когда отсиживалась в шкафу. Она ведь не дурочка. Пускай Алексей Романов горе-шпион, но с любимой женщиной, по крайней мере, он поступил честно.
Со скамейки, на которой расположились бедные влюбленные, были видны дома городка и – на зеленом утесе – проклятая вилла, так и оставшаяся неприступной.
– Нет! Нет! – рыдала Клара. – Ты не уедешь! Не сегодня! Это нельзя! Я умру!
– Не могу. Получен приказ. Задание провалено, нужно возвращаться.
Она порывисто обняла его, стала целовать и сбивчиво заговорила:
– Ты будешь победитель! Ты выполнишь задание! Ты остаешься со мной еще день, или два, или даже три. Ты вернешься домой триумфатор, царь Николай даст тебя самый главный медаль!
Алеша улыбнулся сквозь слезы.
– Не надо улыбаться! – Клара ударила его кулачком в грудь. – Я буду тебя помогать! Я для тебе всё сделаю! Дон сказал попасть на виллу и какой-то код? Я всё узнаю!
Мысленно обругав себя за болтливость, Романов схватил ее за плечи:
– Ты что задумала?
Она высморкалась в платок и с поразительным хладнокровием, как-то очень уверенно заявила:
– Зоммер любит красивые женщины. А я красивая. Он на меня всегда смотрит. Два раза посылал букет розы. Но я посылала обратно, потому что Зоммер противный. Теперь я буду с ним. Я всё узнаю и скажу тебя.
– Как ты… Как ты могла подумать, что я соглашусь…
Он вскочил со скамейки, весь дрожа от ярости.
– Маленький дурак, – ласково сказала Клара. – Совсем не обязательно спать с мужчина, чтобы узнавать его секрет. Хочешь, я клянусь? – Она вынула из-под платья крестик, поцеловала его. – Убей меня гром и молния, если я буду делать любовь с этот жирный, некрасивый Зоммер!
Горькая тризна
Вечером в гостиничном ресторане штабс-ротмистр Козловский и унтер-офицер Романов справляли тризну по погибшим товарищами и по собственной незадачливой судьбе. В восемь часов утра таксомотор должен был доставить двух уцелевших членов разведгруппы в Лугано на вокзал, оттуда поездом в Венецию и дальше кружным морским путем, через Скандинавию в Петербург. Предстояла долгая и грустная дорога, особенно горькая для Алексея, потерпевшего поражение не только служебное, но и любовное.
Последнее свидание на озере закончилось катастрофой. Теперь стыдно было об этом вспоминать. Он кричал, что не будет альфонсом, сутенером. Клара ответила: «Ты просто не любишь» и ударила его узкой рукой по лицу – сильно и больно. Еще кинула: «Дурак! Идиот!» Повернулась и убежала.
Ну и отлично, сказал он себе, вытирая окровавленную губу. Так даже лучше.
А потом, вечером, когда мрачно курил на террасе, увидел Клару. Нарядная, смеющаяся, она садилась в машину к Зоммеру.
Что это означало? Неужели она все-таки решилась осуществить свое намерение? Или просто устроила демонстрацию, чтобы больнее досадить своему обидчику?
Козловскому про свои страдания Алеша, конечно, не рассказал. Князю и собственных терзаний было более чем достаточно.
За столик они сели поздно, когда в зале уже почти не оставалось посетителей.
Бессердечная кокотка, горестно думал Романов, пока штабс-ротмистр делал заказ. Зоммер богат, а ей нужны деньги. Еще, поди, про нас с Козловским ему доложит. Ну и черт с ней. Все равно дело кончено.
Но в смятенной душе звучал и другой голос, укорявший: «Как тебе не стыдно! Она не такая! Ради любви она готова на всё, а ты…»
Не удержался Алеша, всхлипнул.
– Ой, только без этого. Ради Бога, а? – попросил князь. – А то я сейчас сам слезу пущу.
Надобность изображать «маленького человека» отпала, поэтому штабс-ротмистр был в хорошем сюртуке, полосатых брюках и с траурной повязкой на рукаве.
Стоявший у стола официант был сильно удивлен метаморфозой, которая произошла со скромным аккомпаниатором, но безошибочным нюхом почуял аромат нешуточных чаевых и потому был само подобострастие.
– За наших товарищей, земля им пухом. – Козловский выпил из бокала, поморщился. – Ты что нам принес? Я же сказал: массимо форте. Самого крепкого давай. Нет, к черту коньяк! Граппу неси. Граппа – кларо?
Служитель поклонился и исчез.
Штабс-ротмистр проводил его тяжелым взглядом.
– К черту всё. Не по мне эта служба. И я не по ней. На фронт попрошусь. Сейчас война позиционная – все одно в окопе сидеть, хромая нога не помеха…
www.booklot.ru
Мука разбитого сердца. Содержание - Борис Акунин Мука разбитого сердца
Борис Акунин
Мука разбитого сердца

Подвиг вольноопределяющегося
В первый же день мобилизации студент Алексей Романов отправился на призывной пункт и записался добровольцем в действующую армию. Побудительным мотивом был не патриотизм, а самобичевание: смыть кровью ужасную вину за проваленную операцию. Еще лучше – пасть на поле брани, потому что в жилах одного человека не достанет крови, чтобы искупить ошибку такого масштаба.
Студентов на службу брали неохотно, армейское командование было уверено, что побьет тевтонов силами одной регулярной армии, однако Алеше повезло. В N-ском пехотном полку, формировавшемся из запасных Санкт-Петербургской губернии, был недокомплект писарей. Посему Романов получил погоны с витым шнурком и был зачислен в штаб оператором пишущих машин. Однако при «ундервуде» студент состоял недолго.
В первом же серьезном бою, у восточнопрусской мызы Блюменфельд, едва лишь батарея начала артподготовку, вольноопределяющийся сбежал на передовую линию. Он боялся только одного – что турнут обратно. Но офицеры были ему рады – и командир роты, и субалтерн Шольц, очень славный веснушчатый подпоручик одного с Алешей возраста. Пожали храбрецу руку, выдали винтовку, показали, как примкнуть штык.
Когда капитан заливисто дунул в свисток и отчаянным голосом крикнул «Ура, братцы! Вперед!», Алеша зачем-то посмотрел на часы (было ровно девять утра) и прыгнул из окопа на поле, будто в прорубь на Крещенье.
Он несся огромными прыжками. Потом оглянулся, увидел, что здорово оторвался от роты, и стал бежать потише.
Спереди, со стороны кустарника, начали стрелять, воздух наполнился шипением и разбойничьим свистом. Это пули, понял Романов. Представил, как раскаленный кусок свинца попадает в живот, зажмурился и тоже стал орать «Ура-а-а!». Но кричать и бежать было трудно – не хватало дыхания. Глаза же и вовсе закрывать не следовало. Вольноопределяющийся споткнулся о торчащий из земли сук и упал, а когда поднялся, впереди были сплошь спины в линялых гимнастерках.
Та-та-та-та-та! – с радостным ожесточением ударил пулемет. Вокруг все закричали, но не «Ура!», а «Мама!» или по-матерному. Все вдруг побежали гораздо медленнее. Многие стали падать. Кое-кто повернул назад. У этих, которые повернули и теперь оказались к Алеше лицом, были вытаращенные, остановившиеся глаза и разинутые рты.
Сплошная стена гимнастерок, заслонявшая поле, проредилась. Романов снова оказался впереди всех. Капитана не было видно, в свисток больше никто не дул. Зато Шольца студент увидел совсем близко. Подпоручик лежал ничком, отбросив руку в перчатке.
– Вы что, ребята, вы что?! – закричал Алеша бегущим.
Только в этот миг ему стало по-настоящему страшно. Если все побегут, то и ему придется. Тогда пуля попадет не в грудь, а в спину. Хороша будет смерть храбрых!
Он замахал винтовкой, повернув назад одну только голову.
– Ребята, вперед! Немножко осталось! Вон они, кусты!
«Совсем как Болконский при Аустерлице», мелькнуло в голове у Романова.
Только за князем Болконским солдаты побежали, а за Алешей никто. Он остался торчать посреди пустого пространства один.

Вперед бежать было глупо, в плен попадешь. Назад – немыслимо.
Неизвестно, чем бы закончилась эта невозможная ситуация, если б не германская пуля, попавшая-таки в Алешу. Не в грудь и, слава Богу, не в спину. В руку.
Как будто кто-то с размаху ударил железным ломом пониже правого локтя. Было не столько больно, сколько горячо, и вся рука до плеча разом онемела. От толчка Романов крутанулся на месте, упал.
Понял: ранен. И опять зачем-то посмотрел на часы. Очевидно, сработала подсознательная реакция – ухватиться за нечто незыблемое и логическое в сошедшей с ума реальности.
Но оказывается, время тоже окоченело от ужаса. Циферблат показывал все те же девять часов. Атака не продлилась и одной минуты.
Неимоверное облегчение – вот чувство, с которым Алеша, пригнувшись, бежал назад. Винтовку волочил по траве за ремень. Немцы по раненому не стреляли.
Доковылял до окопа, упал на руки солдат и лишь тогда, опять-таки с облегчением, лишился чувств.
С героями на германском фронте в эти мрачные сентябрьские дни было скудно. Бездарную атаку на пулеметы по открытому полю в рапорте представили как богатырский порыв. Раненого студента представили к унтер-офицерскому чину, наградили крестом, а еще поместили в газете Севзапфронта заметку «Подвиг вольноопределяющегося», которую потом перепечатали и в столицах.
Из публикации Романов узнал, что он с огнем в глазах и кличем «За Русь-матушку!», увлек роту в геройскую штыковую атаку после выбытия из строя всех офицеров. Про то, что рота не очень-то увлеклась, а до штыков вовсе не дошло, в статейке упомянуто не было.
Вопрос о том, смыл ли он вину кровью, для Алеши так и остался открытым. По правде говоря, ему было не до моральных терзаний – хватало физических. Восьмимиллиметровая пуля германского «машиненгевера» перебила кости предплечья. Измученный беспрерывными операциями хируг поначалу хотел отчикать растерзанную конечность, потому что ампутация занимает пятнадцать минут, а, если вычищать осколки кости да сшивать сухожилия, это возни часа на два. Но узнал, что студент – и пожалел. Повезло Алеше, остался при руке.
Проку от нее, честно сказать, было мало. Одна мука. Рука двигаться не двигалась, но исторгала невероятное количество гноя и адски саднила, а обезболивающие уколы в отделении для нижних чинов делали лишь самым тяжелым. Чтобы не выть в голос, Романов распевал нудные, тягучие романсы Абазы. Тем и спасся.
У кровати бледного героя стали задерживаться сестрички милосердия. Слушали с затуманенным взором, вздыхали, иные и плакали. Одна повязку не в очередь сменит, другая лоб уксусом протрет, а некая Машенька даже потихоньку таскала из операционной шприцы с морфием. Так Алеша и пережил первые три недели, потом стало легче. Лихорадка спáла, боли прошли.
В госпиталь приехал генерал, прицепил герою прямо на пижаму сияющий солдатский «Георгий». Алеша спел на Покровском концерте, после чего был перемещен в офицерскую палату. Жизнь понемногу вновь обретала краски.
Но были и поводы для огорчения, числом два.
Во-первых, не слушалась рука. Кисть еще так-сяк шевелилась, а пальцы ни в какую, и старший ординатор на вопрос о перспективах лишь качал головой. Было очень похоже, что ни водить авто, ни играть на фортепьяно студенту Романову больше не доведется.
Меньшее (но тоже нешуточное) огорчение возникло из-за милосердной Машеньки. Как известно, в женском сердце от милосердия до любви дистанция самая крохотная. А девушка была смелая, с характером – даром что ли на войну ушла – и повела себя на манер пушкинской героини, то есть своих чувств скрывать не стала.
В случаях, когда нужно ответить на страстное признание отказом, мужчине приходится куда труднее, чем женщине. Обычаи и привычки общества таковы, что, оказавшись в положении Иосифа Прекрасного, бегущего ласк жены Потифара, молодой человек выглядит довольно комично и даже жалко. Особенно если тут еще примешивается долг живейшей благодарности и симпатия, ибо Машенька была, хоть не красавица, но очень и очень мила.
В конце концов обошлось. Алеша поступил немножко жестоко, но честно: рассказал про Симу, и Машенька, благородная душа, поняла. Даже предложила, что будет под Алешину диктовку писать счастливой сопернице письма, однако это было бы уже чересчур.
После ранения Романов невесте ни разу не написал, да и от нее весточек не было. Последнее неудивительно, поскольку госпиталь несколько раз переезжал с места на место. Сам же он не мог держать перо, а потом, когда кое-как обучился карябать левой, подумал, что эффектнее будет заявиться лично. Наверняка Сима читала про геройство вольноопределяющегося в газете, места себе от тревоги не находит. Тут-то он и объявится: с крестом, с лычками, с рукой на черном платке.
www.booklot.ru
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Пример видео 3 Пример видео 3 |  Пример видео 2 Пример видео 2 |  Пример видео 6 Пример видео 6 |  Пример видео 1 Пример видео 1 |  Пример видео 5 Пример видео 5 |  Пример видео 4 Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»