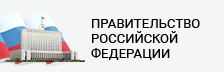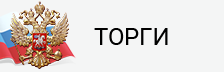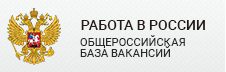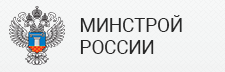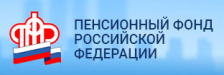Солдатский хлеб. Дерево солдатский хлеб
Солдатский хлеб - Жизнь за кадром
 «Отчего-то на войне кушать хочется вдвойне», - писал Твардовский. Совместные действия пехотных, танковых, артиллерийских и авиационных подразделений, в ходе проведения показных занятий для командиров соединений Западного военного округа на крупнейшем в Европе полигоне, расположенном в Нижегородской области. Несколько тысяч человек ездят, стреляют, летают. Всех их необходимо кормить. Для этого в поле развернута работа полевых кухонь. Здесь же работает хлебопечка. Здесь все, как на заводе – мука, дрожжи, соль вода, масло. Тесто раскладывают в формы, и через час над поляной разносится запах свежего хлеба.
«Отчего-то на войне кушать хочется вдвойне», - писал Твардовский. Совместные действия пехотных, танковых, артиллерийских и авиационных подразделений, в ходе проведения показных занятий для командиров соединений Западного военного округа на крупнейшем в Европе полигоне, расположенном в Нижегородской области. Несколько тысяч человек ездят, стреляют, летают. Всех их необходимо кормить. Для этого в поле развернута работа полевых кухонь. Здесь же работает хлебопечка. Здесь все, как на заводе – мука, дрожжи, соль вода, масло. Тесто раскладывают в формы, и через час над поляной разносится запах свежего хлеба.
01. Хлеб, кстати, по своему качеству в разы лучше, чем в магазине
02. Хлебопечка оборудована на базе «КамАЗа»
03. Готовый хлеб выкладывают на специальный стол
04. Оттуда раскладывают на деревянные поддоны
05. После его разнесут по столовым
06. Кстати, как выглядит полевая столовая
07. Раздача
08. Мой оператор Серега увлекся процессом нарезки
09. Я думал, что официант поставлен для кадра, но меня заверили, что даже в поле белая форма – обязательный атрибут
10. Первые посетители
Я в ТВИТТЕРе.Я в ФЕЙСБУКе.
Кстати, а вы сами хлеб выпекаете, или покупной лопаете? Не кажется, что в последнее время качество хлеба резко ухудшилось?
yaroslav-gunin.livejournal.com
POGRANICHNIK.ru - Солдатский хлеб
Время странная субстанция, наворачивается на стержень памяти человека как суровая нитка, местами чуть разлохмачиваясь, местами сбиваясь в пучки, эти самые пучки порой становятся столь плотными, что оставляют узелки, узелки на память. Вот так и живем с этой ниткой, то забывая поток событий, которые когда-то были существенными, а потом разлохматились за чередой других, а то разглаживая нить воспоминаний наталкиваемся на узелок и в памяти возникает событие, которое уж и вспомнить казалось бы и не чаял.
Месяц назад, заскочив по пути на дачу в сельский магазин, купил буханку белого хлеба, не нарезной батон, не булку, а формовой «кирпичик» белого хлеба, чуть короче обычного «Бородинского», повыше, отличающегося от «московского стандарта» формового хлеба. Вот и зацепило...
Рука приняла буханку, почти невесомую, но полную... Полную чего? Да, пожалуй, так сразу и не объяснить. В руке было живое ощущение ХЛЕБА. Корочка, чуть шероховатая, дышащая теплом, верх буханки прямо лоснился, на легкое сжатие хлеб откликнулся четким «дыханием». Под сердцем аж защемило, мозги судорожно рванули за кончик нити, разматывая события до того самого места, где был запрятан узелок, узелок с памятью о солдатском хлебе.
Впервые по-настоящему я ощутил вкус солдатского хлеба, будучи семилетним пацаненком, в Ребольском Краснознаменном погранотряде. Там наносившись по близлежащей тайге, с ее бесконечно высокими реликтовыми соснами, наскакавшись по гранитным валунам на побережье бессчетных озер, мы бежали к отрядной столовой, где в окно выдачи хлеборезки, назвав фамилию отца, получали от улыбающегося «бойца-хлеборезки» буханку белого хлеба «в счет пайка». В отряде пекли свой хлеб. Это было нечто сверхестественное. Запах был опьяняющим, буханка ровненькая, но по форме была чуть короче городской, которую я помнил, по «академической» Москве и предкарельскому Ленинграду. Проводя ладошкой по боку буханки, я чувствовал ее шероховатую поверхность, почти суровую, до того хорошо она была пропечена, а корочка... Эх, братцы! Какая там была корочка! Светло-коричневая, глянцевая, которая просто сияла на солнце, когда ты выносил хлеб на улицу, счастливый от собственной безнаказанности, так как до дома, хлеб точно было не донести, а за паёк все равно вычтут. Эх! Вгрызаясь в хлеб, царапая нос о пропеченные стенки горбушки, отрываешь зубами его мягкое, податливое нутро. Ка-а-айф! Пористое нутро хлеба, его суть, отливающее восковой спелостью тепло. Нет, передать это на бумаге невозможно, это таинство. Таинство, через которое нужно пройти. Нет, мы не думали о труде пахаря, перед глазами не возникали бесконечные поля с колосящейся пшеницей, не было этого. Но осознание того, что в этом первом по-детски жадном откусывании есть нечто природное и магическое, было. Смачно хрустя горбушкой, переговариваясь между собой с набитым ртом, мы бежали опять в тайгу или на озеро, чтобы вечером, получать опять от матерей претензии и подзатыльники за то, что ужин остался почти не тронутым, и готовить они нам больше не будут, раз нам черники с брусникой хватает. Черники, брусники, клюквы, грибов, рыбы и дичи действительно было завались, но что это все было без солдатского хлеба?
Годы шли, менялись места службы отца, потом я сам служил, но в памяти навсегда засел вкус того хлеба, деревянный желоб практически цвета белого янтаря, ободранный тысячами буханок хлеба, который грузили на «хлебовозку», развозя на ближайшие заставы. Стайку пацанов, которые неслись зимним днем к обеденной выпечке «за крошками». Не было ничего вкуснее, чем крошки горячие, еще парящие от тепла буханок на тридцатиградусном морозе, хрустящие на зубах. Умопомрачительное ощущение: теплая жменя крошек, стремительно отдающая тепло морозу, забрасывается в рот, а там, чуть похрустывая на зубах, наполняет рот вкусом и еще таящимся, где-то внутри теплом.
Меняя места службы, разменивая годы, приобретая друзей, врагов и жизненный опыт я приходил к выводу, что нет ничего вкуснее солдатского хлеба, а уж мне довелось поесть его вдоволь, во всех его проявлениях. Был и «заставской», и «отрядный», и «отдельский», и «корабельный», у каждого из них был свой вкус, но их объединяло одно, этот хлеб прошел через руки, он был живым. В нем не было того, что частенько присуще городскому хлебу, с его бездушием индустриальной технологии, когда даже горячий батон после отламывания горбушки и ее поедания не зовет к дальнейшей «трапезе голодного вороненка». Нет этого, ну разве что за исключением хлеба с Красной Пресни. Он не хранится, крошется и кислит уже через сутки, а я вот вспоминаю как ребята из бригады сторожевиков, уходя на границу, морозили черный ржаной хлеб, загружая холщевые мешки с буханками с аккуратностью достойной снарядов, чтобы потом их разогревать там, в море, мотаясь без возможности зайти на базу за «свежачком». Помню, рассказ Димки Охотникова, который снайперил в знаменитом «полтиннике», 350-ом ВДП под Кабулом, который рассказывал о кофейно-чайном супе, который они жрали трое суток, вылеживая в засаде караван с оружием и мечтали о сухарях. А 88-ом, нам привезли из Кабула пакистанский чай, целый мешок и сухарей, обычных пайковых. Мы лихо заварили чай, а потом сидели и молча грызли сухари... Потом забыли про чай и напились водки, тихо перебирал струны гитары Охотников, учебники были задвинуты на угол подоконника, за дверями посапывали однокурсники, а мы грызли армейские сухари и пили водку не чокаясь.
Видимо такова доля солдатского хлеба, давать ощущения полноты жизни в новорожденном своем состоянии и отрезвляюще тормошить память будучи уже в сухаре.
Не знаю зачем я все это пишу, ведь тут нет ни намека на «смысл жизни» или юмора, но просто в руках была буханка ЖИВОГО ХЛЕБА, и дай Бог, чтобы каждому солдату, да и всем нам его хватало.
(c) Рихард (Старшина) 21-04-2005
pogranichnik.ru
Евгений Всеволодович Воеводин Солдатский хлеб. Тревожные рассветы
Евгений Всеволодович Воеводин
Солдатский хлеб
Смеркалось, и я совсем перестал что-либо понимать. Почему нужно идти в темноте? Неужели начальнику заставы так уж хочется встретить Новый год с нами? У него же семья здесь. Я сам вылепил роскошную снежную бабу для его ребятишек.
…Мы идём быстро, и я не отстаю от старшего лейтенанта. Потом я замечаю, что мы идём вроде бы совсем не в ту сторону. Кончилась лыжня, старший лейтенант шагает по снежной целине. Мне легче идти за ним. Морозец не очень крепкий, градусов десять, но за начальником заставы вьётся лёгкий пар. Конечно, топать по целине куда хуже, скоро от него дым повалит, а не пар, если идти вот так, всё дальше и дальше — в замёрзшее море.
Хорошо, что я ни о чём не спросил его. Всё и так ясно. Мы дадим здоровенного кругаля, спрячемся за островом, потом наденем маскхалаты и будем «нарушать границу». Время старший лейтенант выбрал, конечно, самое подходящее — новогоднюю ночь. «А ведь молодчина! — подумал я. — Нет бы посидеть дома, как положено нормальным людям. А он уже отшагал добрых двадцать километров, и хоть бы что!» Это я прикинул в уме. Но может быть, и не двадцать, а двадцать с лишним, потому что к маленькому островку мы должны подойти тоже скрытно…
— Устал? — спрашивает он с участием.
— Есть малость.
— Три минуты.
Мы стоим три минуты, переводя дыхание, над нами.
— Угостил бы конфеткой, что ли? — говорит лейтенант.
— Пожалуйста.
Конфеты у меня распиханы по карманам. Мы съедаем по одной и закусываем снегом.
— Пошли.
Только бы не подвели ребята. Я пытаюсь сообразить, кто будет сегодня на вышке и кто — на прожекторе, но это нелепо — гадать, ведь из-за меня Сырцов перекроил график нарядов. Только бы смотрели лучше. Может, мне как-то удастся предупредить ребят… Нет. Мне ничего не удастся. Старший лейтенант заметит, и тогда от рядового Владимира Соколова, то есть от меня, полетят пух и перья. Только бы они смотрели лучше! Я иду и думаю, что есть же на свете телепатия. Сам читал. Надо только сосредоточиться и всё время передавать: «Смотрите лучше — мы идём. Смотрите лучше — мы идём». Я буду передавать Сырцову. Я представляю себе его лицо со здоровенной челюстью, смотрю в его глаза и медленно повторяю: «Смотрите… лучше… мы… идём…»
Времени нет. Оно словно бы остановилось здесь, в снежном море. Сколько мы прошли и сколько ещё шагать? Я устал, конечно, это я замечаю по тому, что старший лейтенант уходит вперёд. «Ты мастер спорта, должен же ты понять, что я устал? — непочтительно думаю я о своём командире. — Ну, остановись, дай человеку передохнуть малость. Дай хотя бы съесть конфетку!»
Он не останавливается. Светит луна, и длинная тень начальника заставы всё удаляется от меня. Ничего не выходит из моей молчаливой просьбы. «Остановись!» — он идёт. «Остановись!» — он не останавливается.
Только этого не хватало — упасть. Замёрзну как цуцик, и если старший лейтенант дотащит меня, то уже в виде сосульки. Я взмахиваю палками. Нет, ещё рано падать. Ещё можно идти, хотя бы на этих трясущихся ногах. Тень старшего лейтенанта начинает приближаться. Или он замедлил шаг, или я начал догонять его. Одно из двух. Скорее всего, он тоже устал. Мастера спорта тоже сделаны не из железа.
— Три минуты.
— И конфетку? — ехидничаю я.
— Нет, спасибо. Надевай маскхалат.
И только тогда я замечаю, что мы уже за островом. Пот из-под шапки заливает мне лицо. Но вот он, островок, на голубом фоне острые пики ёлок, тёмные валуны со снежными шапками. До меня не сразу доходит, что голубой фон — это свет нашего прожектора. Свет меркнет, смещается в сторону — островок исчезает.
— Вперёд!
У меня уже не дрожат ноги. Я иду за старшим лейтенантом почти вплотную. Островок слева. Мы обходим его — и вперёд, вперёд… «Смотрите… лучше… мы… идём…» Ну чего же они там? Почему не включают прожектор? Спят все, что ли?
— Ложись и не двигайся. Вот он!
Голубой свет вспыхивает так неожиданно, что я не сразу успеваю повалиться в снег. Самого луча я не вижу. Только голубое облако, которое приближается к нам.
— Не двигайся, — с угрозой повторяет старший лейтенант. Он смотрит на меня. Думает, что я как-нибудь обнаружу себя. Всё-таки там — свои ребята.
Свет ходит: нас не обнаружили.
— Вперёд!
Мы бежим, бежим изо всех сил, теперь их нечего жалеть. И вдруг облако света обрушивается на нас, свет бьёт в глаза, свет со всех сторон…
— Назад!
Теперь прожектор светит нам в спину. Мы уходим, убегаем от него. Я не вижу ракет, которые пускают с вышки, сигнал тревоги: «Прорыв со стороны границы». Но я знаю, что ракеты уже пущены, и на соседних заставах их увидели…
— Скорей, скорей!
«Куда же он? — думаю я на ходу. — Долго он будет таскать меня по снегу?» Когда я падал, снег набился в рукава, попал за шиворот — и теперь по груди и животу ползут холодные струйки воды. А всё-таки нас обнаружили! Нашли, чёрт возьми! Свет не отпускает нас, мы по-прежнему в луче прожектора. Я догадываюсь: старший лейтенант хочет снова спрятаться за островком, переждать…
Так и есть.
Мы тяжело дышим и смеёмся. Стоим и оба смеёмся, потому что нам не удалось пройти.
— Сейчас будет самое интересное, — говорит старший лейтенант. — А пока давай перекусим, если не жалко.
— Не жалко.
— «Южная ночь», — говорит он, разжёвывая конфету. — Мои любимые. Устал здорово?
— Здорово.
— Тебе надо подучиться. Вполне можешь сдать на разряд.
— Некогда.
— Ты, наверное, ленив малость?
— Есть немного, — соглашаюсь я.
— Тогда ничего не получится. Ага, едут!
Я ещё ничего не слышу. Приходится задрать опущенное ухо шапки, и тогда явственно доносится рокот мотора. Только я не могу определить, с какой стороны. Звук слышен то справа, то слева, он мечется по всей снежной целине.
— Пошли.
— Товарищ старший лейтенант…
— Нечего стоять. Замёрзнешь.
Легко, будто бы и не было позади двух десятков километров, он снова скользит по снегу. Мы уходим в открытое море. Островок-укрытие остаётся за спиной…
— Смотрите!
Издали к нам приближается разлапистое чудище с двумя горящими глазами-фарами. Гул мотора нарастает и нарастает. Я оборачиваюсь — с другой стороны на нас идёт другое такое же чудовище, и мне становится жутковато.
— Всё, — втыкает палки в снег мой начальник заставы. — Не рыпайся и подымай лапки вверх. Ну, быстро.
Я поднимаю руки. Аэросани светят нам в лицо своими глазищами-фарами. Солдаты спрыгивают в снег, я различаю, лишь силуэты, но зато явственно слышу остервенелый собачий лай. А ну как сорвётся собачка с поводка? Как ей тогда, докажешь, что я вовсе не шпион?!
Это произошло сразу. Иссиня-чёрная туча надвинулась так стремительно, так быстро погас день, что казалось, в большой комнате выключили свет. Ветер ударил по макушкам деревьев, сорвал провода, идущие к гаражу, разбросал и потащил по земле пустые ящики.
Шторм был со снегом, и снег резал лицо. Опять по земле легли белые вытянутые полосы, будто кто-то разорвал простыни и бросил клочья. Обрывки проводов бились о деревья и землю… Потом с грохотом повалилась сосна и легла рядом с домом.
Море пошло на нас. Перед камнями вырастала белая стена, море колотилось об эти камни со взрывами, и казалось, дом дрожит не от ветра, а от этих глухих, откуда-то из-под земли доносящихся, взрывов.
Мне было и жутко и весело одновременно. Не улетела бы снова крыша! И вышка выстояла бы! Сырцов снял с неё часового, и я подумал — правильно. Ложков был зелёно-фиолетового цвета. Он стоял на вышке, когда ударил этот шторм. Перепугался парень до невозможности: и уйти без приказа нельзя, и оставаться страшно. Вышку мотало. «Как будто в землетрясение попал», — рассказывал нам Ложков, помаленьку приходя в себя.
Шторм продолжался весь день, ночь и начал стихать к следующему утру. Мы чувствовали себя так, как, должно быть, чувствуют себя хозяева, вернувшиеся домой и увидевшие, что здесь побывали взломщики. Поваленные деревья выставили свои лапы-корни. В бане были выдавлены стёкла и сорваны двери. Хорошо, мы с Эрихом вытащили лодку на берег, и она не пострадала… Сырцов сказал, что на этот раз мы легко отделались.
Была моя очередь идти на вышку, и я поднимался не без робости. Здесь ветер гудел, выл, свистел на все лады, и вышка походила на яблоню, с которой трясут яблоки. Вполне понятно, что Ложков здесь позеленел. Меня тоже начало мутить от тряски. На такой вышке не дежурить надо, а впору хоть тренировать космонавтов.
Казалось, я стоял на вершине большой горы, а внизу громоздились горы поменьше. Они двигались, сшибались, догоняли друг друга и накрывали одна другую. В это кипение воды вдруг врывалась ослепительная полоса — ветер разрывал тучи, и тогда стремительно падал сноп солнечного света. Вот тогда, когда такой сноп упал, я и увидел лодку. Поначалу я не поверил себе: откуда здесь могла появиться лодка? Схватился за ручки прибора с мощной оптикой, развернул трубу — лодка оказалась перед глазами. Её несло прямо к нам; она то поднималась, то проваливалась и снова вскакивала на гребень волны. В лодке были двое.
Я метнулся в будку. Кнопка — сигнал боевой тревоги. Ракетница на полочке. Две красные и одна зелёная. Ветер снёс ракеты в сторону, но всё равно на заставе уже заметили сигнал. Ребята выскакивали из дома, на ходу выхватывая из пирамиды автоматы. Они не слышали, что я им кричал. Пришлось мне прогрохотать вниз, едва касаясь ступенек. Впрочем, даже отсюда, снизу, была видна лодка…
— Разобьются, — вдруг сказал Эрих. — Это рыбаки. Спасать надо.
Я мельком подумал: почему он решил, что это рыбаки? А через секунду уже бежал за ним к нашей лодке. Мы перевернули её, столкнули на воду. Здесь, за камнями, было тихо. Вернее, почти тихо. Волны разбивались о камни там, дальше…
— Осторожней! — крикнул Сырцов. — В море не выходить!
Не так-то просто было выгребать против ветра. Лодка развернулась боком, и её сразу же прижало к берегу. Эрих спрыгнул в воду и навалился на борт всем телом. Надо было идти против ветра — и мы всё-таки повернули наш ялик. Эрих перевалился в лодку, и я увидел, что брюки у него мокрые выше колен: стало быть, нахватал воды в сапоги.
Мы гребли вместе, сидя друг против друга. Эрих положил свои руки поверх моих и толкал вёсла, а я тянул их — только так и можно было выгрести.
Мы не видели ту лодку. Сырцов показывал с берега рукой — правее, правее; а как идти правее? Стоило только повернуть, как нас снова несло на берег. А Сырцов всё махал нам — правее, ещё правее, ещё…
Наконец нам удалось зайти за камни. Здесь было тихо, и вода только крутилась. Ладони у меня горели. Я взглянул на ребят и увидел, что они замерли, подавшись вперёд.
— Скорей, — сказал Эрих. Он тоже увидел это и догадался раньше меня, что нужно скорее…
Всё-таки мы не успели. Та лодка ударилась о камни прежде, чем мы подошли. Я даже не слышал никакого треска. Нос той лодки задрался и, скользнув по полированному боку валуна, исчез под водой. Всё это происходило слишком быстро для меня, чтобы я мог сообразить, что делать дальше.
А дальше Эрих бросился в воду. Просто встал и нырнул. Глубина здесь была небольшой, ему по грудь; он пошёл по дну, вскинув руки, а я лихорадочно грёб за ним, потому что сразу полегчавшую лодку относило сильней и сильней. Я не видел Эриха — ведь я грёб, сидя спиной, и оборачивался на секунду, чтобы самому не врезаться в какой-нибудь камень. Потом возле лодки оказалось сразу три головы — и шесть рук одновременно вцепились в борт ялика. С ума они сошли, что ли? Перевернут же… Я убрал вёсла — и сразу лодку понесло к берегу. Там было совсем мелко. Ветер тащил наш ялик, а ялик тащил Эриха и тех двоих.
И опять всё происходило слишком быстро. Короткий удар. Ребята с автоматами возле лодки. Эрих, встающий первым и помогающий подняться тем двоим. Всё. Я полез в карман за сигаретами. Больше всего на свете мне хотелось закурить. Вытащить лодку успеем. Главное — закурить и маленько прийти в себя. Ведь я даже не сообразил, почему в лодке вместе с Эрихом оказался именно я, а не кто-нибудь из ребят. Должно быть, сработал рефлекс. Раз мы ездим обычно с ним, значит, и на этот раз ничего не должно нарушаться, а идти по-старому. Но ничего, всё в порядке. И, только закурив, я поглядел на тех, вытащенных Эрихом… Одному было не менее пятидесяти лет, наверное. А другой совсем мальчишка. Тот, что постарше, ещё держался, а мальчишка как повис на Эрихе, так и не отпускал его. Их повели в дом, совсем забыв обо мне. Пришлось крикнуть: «Эй, а кто будет вытаскивать лодку, черти зелёные?»
Всё-таки это были нарушители границы, не «спасённые», а «задержанные», и, как полагалось, Сырцов произвёл обыск, только потом их переодели и начали отпаивать чаем. Лёнька побежал топить баню. Сашка сворачивал рацию. Оказывается, всё это время он был на связи с заставой, комендатурой и отрядом. Кажется, сработали мы совсем не плохо. Только нарушители попались несерьёзные: конечно, рыбаки, а вовсе не какие-нибудь шпионы. Мальчишке лет тринадцать или четырнадцать, наверное. Сидит и дрожит, кутаясь в два одеяла. Взрослый вроде бы ничего, даже улыбается нам и что-то говорит по-фински. А может, и не по-фински, кто знает?
Вещи, найденные при обыске, лежат в нашей спальне: два ножа, мокрая пачка с расползающимися сигаретами, зажигалка, коробка с крючками, компас, часы, какая-то бумажка, которую Сырцов не рискнул развернуть. Пусть лежит и сохнет до прибытия начальства. С заставы передали: ждите вертолёт, когда стихнет ветер. Не хотят рисковать. Значит, пока не стихнет ветер, эти двое будут у нас.
Эрих тоже переоделся, и ему тоже в первую очередь была налита кружка чаю. Он сидел рядом с задержанными, грел о кружку красные руки и молчал. Старик что-то сказал своему юному напарнику, тот ответил — Эрих даже бровью не повёл. Но я-то уже догадался, что он молчит нарочно. Я слышал, что эстонцы запросто понимают финнов. И сейчас Эрих просто хочет послушать, о чём они говорят.
Вдруг старик сказал, показывая на себя:
— Матти. Матти Корппи. — Потом ткнул пальцем в юношу: — Вяйне.
И заговорил, заговорил, а мы покачивали головами: нет, никто не понимает. Тогда старик начал показывать, как на крючок надевают наживку и вытаскивают добычу. Изображал рыбака. Я смотрел на его руки с короткими, растрескавшимися, неуклюжими пальцами. У него были сильные руки, у этого Матти Корппи, не то что у его напарника.
Старик сумел-таки кое-что объяснить. Мы понимали каждый его жест. Он показывал, как вышел с этим юнцом, Вяйне, в море, как начали ловить рыбу, как налетел шторм и их понесло и как отказал мотор, а потом вырвало весло… Всё, всё было понятно без всяких слов. Что ж, им повезло. Жаль, конечно, что погибла лодка, но хорошо, что сами остались живы. Через несколько дней их передадут финскому пограничному комиссару, и то-то будет рассказов у Вяйне, как он побывал в России, в Советском Союзе.
Эрих повёл задержанных в баню. Они парились там часа два, не меньше. Надо было где-то устроить их на ночлег. Сырцов решил: там же, в бане: Окна мы заколотили фанерой и убрали осколки стёкол, выбитых ветром. Правда, придётся ставить у дверей часового. Так положено.
Но после бани они вернулись в дом, и Эрих тихо сказал:
— Рыбаки. Родня. Парень лодку жалеет. Недавно купили мотор. Хотели лосося поймать.
— Ясно, — сказал Сырцов. — Пожалуй, можешь поговорить.
Эрих что-то сказал Корппи, и старик вытаращил на него выцветшие слезящиеся глаза. Я-то думал, финны молчуны, а этот начал трещать как пулемёт. Эрих переводил, запинаясь.
— Говорит, они небогатые люди. Вообще, не совсем рыбаки. Ещё это… гонял смолу. — Видимо, он понимал не всё, что говорил Матти. — А, ясно. У его жены восемь детей и столько же внуков. Два взрослых сына работают в Турку. На верфях «Крейтон-Вулкан». У него есть письмо от сына, которое мы отобрали… Оба сына — рабочие.
— Коммунисты? — спросил Лёнька.
Старик понял это без перевода и покачал головой: нет.
Эрих часто переспрашивал старика, но всё-таки переводил. Оказывается, этот юноша, его внук, Вяйне, живёт с дедом потому, что в городе очень дорого. Хлеб дороже, масло, мясо… У Вяйне неважное здоровье, но в городе врачу надо платить больше, чем в деревне. У них на три общины один врач, и ему можно платить рыбой, утками, яйцами…
— Во даёт! — сказал Ложков. — Значит, пощупает тебя доктор — гони утку?
— Первый раз слышишь, что ли? — не поворачиваясь, сказал Сырцов. — У них же капитализм всё-таки. — И попросил Эриха: — Ты переведи, зачем они далеко в море уходили, если у них такая лодчонка хилая?
Эрих перевёл.
— Он говорит, у берега ловить нельзя. Там каждый остров — частный. Личная собственность.
— Значит, простому человеку и порыбачить негде? — всё удивлялся Ложков. Как будто с луны свалился. Как будто никогда газет не читал.
— Отставить, — сказал Сырцов. — Спроси, сколько они за образование платят?
Эрих уже устал. И баня его разморила, должно быть. Но всё-таки перевёл.
— Ты погоди, — не унимался Ложков. — Что ж, значит, выходит? Заболел — плати. Хочешь учиться — плати. Хочешь жить в квартире — отдай четверть зарплаты! А сам вот — мотор купил. Ты спроси, у него какое хозяйство? Ну, кулак он там или середняк?
Эрих не стал спрашивать.
— Ты на его руки погляди, — ответил он.
Старик курил наш «Памир» и кашлял — сигареты были крепкими для него, а может, простыл за те полтора дня, что их несло. Вяйне начал дремать. Пришлось потрясти его за плечо: идём, идём спать. Мне ведь надо на вышку. Головня только подменил меня там, а я и забыл об этом. Мне стоять ещё полтора часа. Ветер не стихает, и вышка гудит по-прежнему.
— Ну, как там? — спрашивает Сырцов.
— Спать пошли.
— Я не об этом. Рассказывали они чего-нибудь?
— Рассказывали.
Я гляжу на море, на эти мечущиеся волны, покрытые ослепительно-белой пеной, и мне как-то странно, что там, за ними, люди живут совсем не так, как мы. Одно дело читать об этом в газетах, и совсем другое — своими глазами увидеть мальчишку, который не может жить в городе у родителей потому, что там дороже платить врачу…
Вертолёт появился через два дня. Гигантская стрекоза опустилась рядом с домом, на поляне, где мы обычно занимались строевой. Лопасти покрутились, повисли — тогда раскрылась дверца, и показался комендант участка подполковник Лобода. Сам прилетел!
Вместе с ним были два солдата и длинный, обвешанный фотоаппаратами прапорщик. Я подумал: какой-нибудь технический эксперт. Прапорщик оказался корреспондентом нашей окружной газеты «Пограничник» и сразу взял Эриха и меня в оборот. Сначала он вытащил блокнот и сказал:
— Коротко, без лирики, самую суть.
Рассказывать пришлось мне. Прапорщик записывал, повторяя: «Спокойней, видишь — не успеваю». Потом подозвал Сашку Головню и расставил нас на камнях. Мы стояли, сжимая автоматы и вглядываясь в даль. Прапорщик снимал нас сверху, снизу, сбоку, а я еле сдерживался, чтобы не засмеяться.
— Читайте о себе в День пограничника, — сказал длинный прапорщик. — Желаю успеха.
Финнов пригласили в вертолёт, и вдруг Вяйне заревел, прижавшись к деду. Шёл и ревел. Уже подойдя к вертолёту, Матти, отыскав глазами меня и Эриха, сказал по-русски:
— Спасибо, спасибо…
— Не за что, — сказал я. — Не заплывайте далеко.
librolife.ru
Евразийский журнальный портал • Публикации • Солдатский хлеб
* * * Снится пепел деревни, В рваных ранах большак — Из кольца окруженья Всё не вырвусь никак. Всё сжимаю гранату, А швырнуть не могу. Умирают солдаты На бегу, на бегу. А меня всё минует, А меня всё щадит. Чем за щедрость такую Буду в жизни платить? Может, правда, в рубашке Мать меня родила? Попытать в рукопашной — Эх, была не была!.. Чёрный пепел деревни, Кровью залит большак. Из кольца окруженья Всё не вырвусь никак.
Перед атакой
Упало небо на окопы, В испуге прячется в щелях. Земля в глазах, Земля и копоть, Земля в ушах и на зубах. Песком засыпаны ребята, Кто мёртвый, Кто ещё живой. А надо встать, Кому-то надо Шагнуть за бруствер огневой. Мне только-только восемнадцать. Я не любил ещё, не жил. Мне мама снится, Книжки снятся, Родной речушки камыши. Они живут со мною рядом Одной тоской, Одной мечтой, А надо встать, Кому-то надо Шагнуть за бруствер огневой. В глаза земля, Земля и копоть, Гудит гроза над головой, Встаю над ранами окопа, Встаю на бруствер огневой.
Встреча в разведке
…Сошлись нос в нос, Столкнулись грудью в грудь. Разведка натолкнулась на разведку — Как будто в поле негде разминуться. Без криков, Без проклятий, Кто кого… Душили, Грызли, Резали, Кололи… И не хватило у зимы снегов Засыпать лужи крови в бранном поле.
…И до утра я не сомкну глаза. Маячат мертвецы в кошмаре мглистом. И бьётся из-под лезвия ножа В дымящий снег струёю кровь фашиста.
Солдатский хлеб
Горела степь, Горело небо, Гудел войны тяжёлый гром. На взвод принёс ефрейтор хлеба, Принёс, рискуя под огнём: «Вот вам…». И молча сдёрнул каску. Лежали мёртвые в дыму. И был тот жданный хлеб солдатский Уже не нужен никому.
В палате
Сестра, сестра! Открой окошки настежь! Я новой песней встретить день хочу. И, оттолкнувшись от невзгод вчерашних, Я, может, тоже к звёздам полечу. Кровать моя мне будет стартплощадкой, Подушка кислородная — скафандр. Не плачь, сестра, Поправь бинты-заплатки, Я не умру, Я не умру от ран! А в градуснике ртуть — всё выше, выше, И кровь сочится снова сквозь бинты… И звёзды шепчут мне всю ночь над крышей: «Вставай, солдат, вставай! Мы ждём, лети!»
www.promegalit.ru
POGRANICHNIK.ru - Солдатский хлеб
Время странная субстанция, наворачивается на стержень памяти человека как суровая нитка, местами чуть разлохмачиваясь, местами сбиваясь в пучки, эти самые пучки порой становятся столь плотными, что оставляют узелки, узелки на память. Вот так и живем с этой ниткой, то забывая поток событий, которые когда-то были существенными, а потом разлохматились за чередой других, а то разглаживая нить воспоминаний наталкиваемся на узелок и в памяти возникает событие, которое уж и вспомнить казалось бы и не чаял.
Месяц назад, заскочив по пути на дачу в сельский магазин, купил буханку белого хлеба, не нарезной батон, не булку, а формовой «кирпичик» белого хлеба, чуть короче обычного «Бородинского», повыше, отличающегося от «московского стандарта» формового хлеба. Вот и зацепило...
Рука приняла буханку, почти невесомую, но полную... Полную чего? Да, пожалуй, так сразу и не объяснить. В руке было живое ощущение ХЛЕБА. Корочка, чуть шероховатая, дышащая теплом, верх буханки прямо лоснился, на легкое сжатие хлеб откликнулся четким «дыханием». Под сердцем аж защемило, мозги судорожно рванули за кончик нити, разматывая события до того самого места, где был запрятан узелок, узелок с памятью о солдатском хлебе.
Впервые по-настоящему я ощутил вкус солдатского хлеба, будучи семилетним пацаненком, в Ребольском Краснознаменном погранотряде. Там наносившись по близлежащей тайге, с ее бесконечно высокими реликтовыми соснами, наскакавшись по гранитным валунам на побережье бессчетных озер, мы бежали к отрядной столовой, где в окно выдачи хлеборезки, назвав фамилию отца, получали от улыбающегося «бойца-хлеборезки» буханку белого хлеба «в счет пайка». В отряде пекли свой хлеб. Это было нечто сверхестественное. Запах был опьяняющим, буханка ровненькая, но по форме была чуть короче городской, которую я помнил, по «академической» Москве и предкарельскому Ленинграду. Проводя ладошкой по боку буханки, я чувствовал ее шероховатую поверхность, почти суровую, до того хорошо она была пропечена, а корочка... Эх, братцы! Какая там была корочка! Светло-коричневая, глянцевая, которая просто сияла на солнце, когда ты выносил хлеб на улицу, счастливый от собственной безнаказанности, так как до дома, хлеб точно было не донести, а за паёк все равно вычтут. Эх! Вгрызаясь в хлеб, царапая нос о пропеченные стенки горбушки, отрываешь зубами его мягкое, податливое нутро. Ка-а-айф! Пористое нутро хлеба, его суть, отливающее восковой спелостью тепло. Нет, передать это на бумаге невозможно, это таинство. Таинство, через которое нужно пройти. Нет, мы не думали о труде пахаря, перед глазами не возникали бесконечные поля с колосящейся пшеницей, не было этого. Но осознание того, что в этом первом по-детски жадном откусывании есть нечто природное и магическое, было. Смачно хрустя горбушкой, переговариваясь между собой с набитым ртом, мы бежали опять в тайгу или на озеро, чтобы вечером, получать опять от матерей претензии и подзатыльники за то, что ужин остался почти не тронутым, и готовить они нам больше не будут, раз нам черники с брусникой хватает. Черники, брусники, клюквы, грибов, рыбы и дичи действительно было завались, но что это все было без солдатского хлеба?
Годы шли, менялись места службы отца, потом я сам служил, но в памяти навсегда засел вкус того хлеба, деревянный желоб практически цвета белого янтаря, ободранный тысячами буханок хлеба, который грузили на «хлебовозку», развозя на ближайшие заставы. Стайку пацанов, которые неслись зимним днем к обеденной выпечке «за крошками». Не было ничего вкуснее, чем крошки горячие, еще парящие от тепла буханок на тридцатиградусном морозе, хрустящие на зубах. Умопомрачительное ощущение: теплая жменя крошек, стремительно отдающая тепло морозу, забрасывается в рот, а там, чуть похрустывая на зубах, наполняет рот вкусом и еще таящимся, где-то внутри теплом.
Меняя места службы, разменивая годы, приобретая друзей, врагов и жизненный опыт я приходил к выводу, что нет ничего вкуснее солдатского хлеба, а уж мне довелось поесть его вдоволь, во всех его проявлениях. Был и «заставской», и «отрядный», и «отдельский», и «корабельный», у каждого из них был свой вкус, но их объединяло одно, этот хлеб прошел через руки, он был живым. В нем не было того, что частенько присуще городскому хлебу, с его бездушием индустриальной технологии, когда даже горячий батон после отламывания горбушки и ее поедания не зовет к дальнейшей «трапезе голодного вороненка». Нет этого, ну разве что за исключением хлеба с Красной Пресни. Он не хранится, крошется и кислит уже через сутки, а я вот вспоминаю как ребята из бригады сторожевиков, уходя на границу, морозили черный ржаной хлеб, загружая холщевые мешки с буханками с аккуратностью достойной снарядов, чтобы потом их разогревать там, в море, мотаясь без возможности зайти на базу за «свежачком». Помню, рассказ Димки Охотникова, который снайперил в знаменитом «полтиннике», 350-ом ВДП под Кабулом, который рассказывал о кофейно-чайном супе, который они жрали трое суток, вылеживая в засаде караван с оружием и мечтали о сухарях. А 88-ом, нам привезли из Кабула пакистанский чай, целый мешок и сухарей, обычных пайковых. Мы лихо заварили чай, а потом сидели и молча грызли сухари... Потом забыли про чай и напились водки, тихо перебирал струны гитары Охотников, учебники были задвинуты на угол подоконника, за дверями посапывали однокурсники, а мы грызли армейские сухари и пили водку не чокаясь.
Видимо такова доля солдатского хлеба, давать ощущения полноты жизни в новорожденном своем состоянии и отрезвляюще тормошить память будучи уже в сухаре.
Не знаю зачем я все это пишу, ведь тут нет ни намека на «смысл жизни» или юмора, но просто в руках была буханка ЖИВОГО ХЛЕБА, и дай Бог, чтобы каждому солдату, да и всем нам его хватало.
(c) Рихард (Старшина) 21-04-2005
pogranichnik.ru
Ай зинвор
СОЛДАТСКИЙ ХЛЕБ ВАЖНЕЕ ОРУЖИЯ
Похожие на кирпичи буханки, немного твёрдые, с красно-коричневой оболочкой, уложены в специальные деревянные ящики. Хлеб только что доставили в войсковую часть, он ещё горячий. Свежий аромат буханки вынуждает меня остаться на месте и проследить за процессом приёма. Всё не так просто, как может показаться с первого взгляда. Существует ряд требований по приёму хлеба, которых строго придерживается соответствующая служба войсковой части.
- Войсковая часть ежедневно получает свежий хлеб,- поясняет капитан Лалаян. – Вес должен соответствовать заявке, представленной войсковой частью.
Кислотность и влажность мякиша испечённого из муки первого сорта хлеба соответствуют установленным в документах требованиям.
Хлеб складывают на деревянные полки постоянно проветриваемой комнаты. Последние предварительно продезинфицированы уксусом. Затем буханки покрывают белой простынёй, чтобы они оставались свежими.
- Прежде всего хлеб посылаем на позиции. Оставшейся частью снабжается столовая. Каждый солдат ежедневно получает 650 грамм хлеба. По 200 грамм он получает за завтраком и ужином, остальные 250 грамм – в полдень,- говорит прапорщик Григорян.
- Хлеб также может воодушевить солдата, как и звук горна.
- Когда ты в боевом опорном пункте, на расстоянии многих километров от войсковой части, когда вокруг нет ни магазина, ни дома, солдатская буханка заставляет представить того человека, который вырастил зерно, того опытного пекаря, который ранним утром зашёл в хлебопекарню. На душе как-то теплеет. Солдатский хлеб нужно душевно печь.
ШУШАН СТЕПАНЯН
Рубрика: #46 (1166) 23.11.2016 - 29.11.2016, Национальная армия, В центре вниманияwww.hayzinvor.am
Ответы@Mail.Ru: Где в пердложении ошибка?
2. Во втором предложении сказуемое предпочтительнее употреблять во множ. числе. т. к. имеются однородные подлежащие. Перед обобщающим словом ставим тире (ложки, - словом, все это.. . хозяйство) . В 1-м двоеточие после обощающего слова - правильно! (конденсатором влаги, А ИМЕННО:)
1)Лес - по мнению ученых, является конденсатором влаги: росы, тумана, инея. 2)Там же был солдатский хлеб, кружка, жестяная мисочка, две деревянные ложки, словом - все это нищее, но необыкновенно аккуратное хозяйство. PS - вроде так))
Предложения на отработку знаков до и после обобщающего слова. Первое правильно. Второе надо так - Там же был солдатский хлеб, кружка, жестяная мисочка, две деревянные ложки, - словом, все это нищее, но необыкновенно аккуратное хозяйство.
Верный ответ у Екатерина Вишнякова
1)Лес, по мнению ученых, является конденсатором влаги -- росы, тумана, инея. 2)Там же был солдатский хлеб, кружка, жестяная мисочка, две деревянные ложки, словом -- все это нищее, но необыкновенно аккуратное хозяйство.
Лес, по мнению ученых, является конденсатором влаги, росы, тумана, инея. т. к влага, роса, туман и иней однородные члены а из этого предложения получается, что влага обобщающее слово Там же был солдатский хлеб, кружка, жестяная мисочка, две деревянные ложки, -словом, все это нищее, но необыкновенно аккуратное хозяйство. т. к обобщающее слово стоит после однородных членов
touch.otvet.mail.ru
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Пример видео 3 Пример видео 3 |  Пример видео 2 Пример видео 2 |  Пример видео 6 Пример видео 6 |  Пример видео 1 Пример видео 1 |  Пример видео 5 Пример видео 5 |  Пример видео 4 Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»