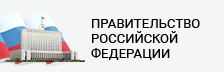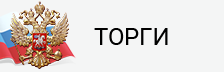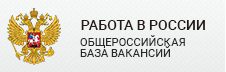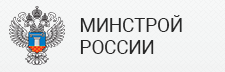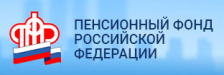Хождение по мукам (книга 1). Сапожков хождение по мукам
Пройтись по мукам - Кинопотрошители
О современной попытке кино-адаптации романа Алексея Толстого "Хождение по мукам".
Пройтись по мукамВ советское время была традиция — каждый год к очередной годовщине Октябрьской революции показывали новые фильмы и спектакли на историко-революционную тему. Потом, в 90-е, фильмы о Ленине, Октябрьской революции и Гражданской войне снимали по понятным причинам с противоположной идеологической позиции (как правило) — и снимали мало: с ходу вспомнятся разве что саркастическая «Комедия строгого режима» («человечество смеясь расстается со своим прошлым»), кровавый «Чекист» да невразумительный истерн «Волчья кровь». В 2000-е и вовсе предпочитали создавать документальные фильмы, в которых события 1917-1921 года показывались тоже однобоко (например, цикл Никиты Михалкова об эмигрантах первой волны или картину с симптоматическим названием «Тамбовская Вандея», хотя антоновцы монархистами, как вандейские восставшие, не были). Да и сам день 7 ноября перестал быть «красным днем календаря» — вместо «Дня согласия и примирения», занявшего место октябрьской годовщины, ввели «День народного единства». Впрочем, иногда в первом десятилетии века об этом снимали и художественное кино (крайне редко, в отличие от фильмов о Великой Отечественной войне). Примером может служить фильм «Адмирал», создатели коего нехотя признавали, что белый террор был не менее кровавым, чем красный. «Но благородный адмирал Колчак и отважный генерал Каппель тут не причем» — убеждали зрителя авторы телевизионной версии фильма — «Это атаман Семенов во всем виноват! И перегибы на местах! А Колчак — посмотрите, как он нежно любит красавицу Анну Тимирёву! А как самоотверженно сражается с этими грубыми варварами-большевиками генерал Каппель!». То, что любовная история выглядит неприглядно с точки зрения традиционной морали (Тимирёва являлась супругой подчиненного Колчака) и то, что в фильме Каппель в исполнении Безрукова предстает неадекватным человеком, не смущало. Неудивительно, что «Адмирал» заслуженно стал мишенью для пародистов.
В 2017 году телевидение просто не могло не проэксплуатировать столетний юбилей — в эфире появилось сразу четыре сериала, посвященных событиям 100-летней давности: «Демон революции», «Троцкий», «Крылья империи» и «Хождение по мукам». О сериале «Троцкий» было написано немало. Что касается «Демона революции» (и его телеверсии «Меморандум Парвуса»), то виденные мной три серии запомнились свешивающимися наперед погонами на мундирах офицеров контрразведки (забастовка костюмеров? нехватка реквизита?) и неубедительностью сценария (больше всего позабавил эпизод, где персонаж М. Матвеева выпытывает у персонажа П. Андреевой планы Парвуса; сразу вспомнился момент из «Снов» Шахназарова, пародирующий штампы постперестроечного кинематографа: «Я должна пойти в мини-юбке в штаб танковой дивизии, чтобы узнать дату наступления на Белый дом»). «Крылья империи» вынужден оставить без комментария — не видел.
Сериал по «Хождению по мукам» внушал хоть какую-то надежду, хотя опыт знакомства с телевизионными продуктами подобного рода подсказывал совсем иное. Внушал самим фактом, что это экранизация трилогии Алексея Толстого, которая наряду с «Тихим Доном» является наиболее известной эпопеей, посвященной Гражданской войне. Следует заметить, что «Хождение по мукам» автор начал создавать еще в 1919 году, находясь в эмиграции, и первоначальный замысел был очень далек от конечного результата. А.Н. Толстой предполагал написать о русской интеллигенции, не принявшей Советскую власть и оказавшейся в изгнании. Но после возвращения в Советскую Россию писатель решил коренным образом изменить содержание — и герои, пройдя через водовороты Первой мировой и Гражданской войн, не покидают Россию, а «переходят на сторону трудового народа» (одно из клише, которые советские историки искусства использовали для характеристики деятелей культуры, поддержавших Октябрьскую революцию). Читатели и критики особенно ценят эпопею за воссоздание атмосферы предвоенного Петербурга и за описание боев Первой мировой (автор в 1914-1917 гг. был военным корреспондентом). Интересен и взгляд на события Гражданской, поскольку Толстой подробнейше останавливается на конфликте белой и красной идеологий на все уровнях, начиная с военного и кончая межличностным и личным, моральным. И, наконец, трилогия интересна живыми, запоминающимися образами героев — сестер Булавиных, инженера Телегина и офицера Рощина. Недаром она до нынешнего времени была экранизирована дважды (оба раза к юбилею) — в 1957-1959 и 1977 гг. Первая экранизация (режиссер Г. Рошаль) передала общую атмосферу, вторая (режиссер В. Ордынский) стремилась как можно полнее отразить все сюжетные линии произведения. Что же удалось создателям третьей (режиссер К. Худяков)?
Появившийся летом прошлого года трейлер сразу смутил меня, поскольку на экране творилось нечто непонятное: то какой-то человек с растрепанными волосами читает стихи, стоя под революционными лозунгами, то Мерзликин и Ходченкова бегают по закоулкам, отстреливаясь от невидимых преследователей. Вроде бы у Толстого таких сцен не было... В конце ноября состоялась долгожданная премьера.
В кадре почти всегда пасмурно — ясные дни и безоблачное небо появляются дозированно. Действие сначала странным образом замедлено — так, события нескольких глав первой части, «Сестры» (например, пребывание Телегина в германском плену) растянуты на несколько серий. Зато третья часть — «Хмурое утро» — изложена сбивчиво и скомкано. Странное впечатление производят и персонажи. Героини А. Чиповской и Ю. Снигирь, сестры Булавины, большую часть времени (особенно в первых сериях) выполняют преимущественно несколько однотипных действий: демонстрируют наряды, смеются, плачут, обнимаются и целуются (последние два действия выполняются чаще других), а работа Даши и Кати сестрами милосердия в госпитале выглядит не как порыв, вызванный желанием помочь людям, а как дань моде (так в наше время некоторые студенты идут в волонтеры только потому, что «это прикольно и за это бонусы можно получить»). Их отец, доктор Булавин, в исполнении С. Колтакова предстает конформистом, прогибающимся под любую власть (даже под советскую!) — хотя в литературной основе образ вовсе не столь однозначен. Телегин и Рощин в исполнении Л. Бичевина и П. Трубинера внешне похожи на своих героев, но почему-то неубедительны — возможно, из-за того, что исполнители уступают в мастерстве Ю. Соломину и М. Ножкину, снимавшихся во второй экранизации (не говоря уже о актерском составе первой!). Совсем не повезло Говядину — из колоритного персонажа (маленького человека, дорвавшегося до власти) он превратился в недотепу, неизвестно как ставшего сотрудником контрразведки. Единственный персонаж, за которым следишь с интересом — первый муж Кати Булавиной, адвокат Смоковников. Пожалуй, это одна из немногих удачных находок; исполнитель роли А. Колган сумел создать образ либерального деятеля, знакомого по сатирическим рассказам Аверченко и произведениям Горького. Чувствуется, что артист хорошо изучил литературную основу.
Странно экранизация обошлась и с историческими персонажами. Зачем-то в число действующих лиц введен Савинков — он то помогает Рощину перейти к белым, то готовит Дашу к покушению на Ленина (у Толстого действовали его эмиссары, а сам знаменитый боевик оставался за сценой (Здесь автор ошибается. Савинков действует в романе под весьма прозрачным именем "человек с булавочкой-черепом"). Махно в исполнении Е. Стычкина выглядит карикатурнее, чем в предыдущих экранизациях: это особенно забавно, учитывая то, что за редким исключением анархисты в советском кино изображались в водевильном ключе, окарикатуривались до предела. Впрочем, я не удивлюсь, если скоро снимут фильм о Ленине, где заглавную роль будет исполнять Д. Хрусталев из шоу «Вечерний Ургант». «А почему бы и нет?» — скажут опытные продюсеры — «Ведь он тоже “лысый, ростом не велик”. И забавно жестикулирует».
Не лучше дело обстоит и с натурой. Окрестности Пятигорска изображают то Галицию, то Гуляй-поле, то Ростов-на-Дону, то Самару — и даже Северо-Западный фронт: расправа солдат над Смоковниковым проходит на фоне горы Юца, причем на том же самом месте в предыдущих сериях обстреливали санитарный обоз с Бессоновым, а Жадову отрывало руку. Кто-то скажет: «Стоит ли придираться к деталям?» И правда — в замечательной экранизации «Двенадцати стульев» (режиссер Л. Гайдай) Провал снимали у другой достопримечательности Пятигорска — грота Лермонтова, а в театре Христофора Колумба ставили не «Женитьбу», как в книге, а «Ревизора». Да и вообще, почему режиссер и сценарист не могут иметь права на свой взгляд в отношении экранизируемого произведения?
Конечно, могут иметь и имеют. Если расхождения с литературной основой не принципиальны, если дело касается таких деталей, как указанный выбор натуры. Или если отступление от основы — сколь угодно значительное — служит концептуальным целям нового, пусть не похожего, но хорошо продуманного, целостного, по-настоящему самостоятельного произведения. Другое дело, когда авторы экранизации с помощью нескольких или даже одного эпизода меняют смысл с целью сделать более легкую, удобоваримую, однозначную, трафаретную вещь из сложной, многослойной. В качестве иллюстрации можно вспомнить, как еще в советское время режиссер и сценарист одним эпизодом взяли и коренным образом изменили смысл экранизируемого произведения. Речь идет о фильме по «Рассказу о простой вещи» Бориса Лавренева, снятом Л. Менакером. В рассказе начальник ЧК Орлов попадает в руки деникинской контрразведки, потому что пытается помочь человеку, по ошибке арестованному вместо него. В фильме сюжетную линию решили развить, и если в рассказе замысел Орлова остается только замыслом, то в здесь чекист пытается устроить побег несчастного крестьянина, что оборачивается катастрофой. Но суть не в этом. Далее арестованного Орлова, как в рассказе, решают обменять на попавшего в плен к красным генерала Чернецова. Но если у Лавренева герой отказывается от обмена из принципа, то в картине он, наоборот, соглашается, но срывает операцию, в момент передачи убивая генерала — свирепого громилу в папахе — из вырванной из рук конвоира винтовки. Из драмы фильм превратился в водевиль, причем опереточным персонажем выглядит и сотрудник контрразведки поручик Соболевский в исполнении Олега Борисова (любопытно, что также шаржировано Борисов спустя несколько лет сыграет белогвардейского контрразведчика в фильме «Макар-следопыт»), хотя в рассказе Соболевский — персонаж, внушающий не иронию, а ужас — за оболочкой обаятельного и эрудированного собеседника скрывается коварный и безжалостный палач. Комический элемент активно использовал, скажем, Г. Полока в фильме «Интервенция», но он снимал трагифарсовый фильм, где буфф-эстетика не эксплуатируется одномоментно для внешнего эффекта, а порождает нужную сатирическую атмосферу, далекую от плакатности официоза (в итоге «Интервенция» была положена на полку и вышла на экраны только в перестроечные годы, как и «Комиссар» Аскольдова, так как они не вписывались в каноны кино о Гражданской).
Режиссер Худяков превзошел режиссера Менакера. Только в «Хождении по мукам-2017» на роль опереточных злодеев назначены большевики. Например, агитатор в госпитале (который, между прочим, отсутствует у Толстого, но в экранизации играет заметную роль), призывающий раненых солдат к бунтам и погромам и в конечном итоге оказывающийся налетчиком. Находка сомнительной оригинальности — такими большевиков уже показали все кому не лень. А ведь Худяков — опытный и талантливый кинематографист. В своё время известность ему принесли картины «Кто заплатит за удачу?» (приключенческий фильм о Гражданской войне) и «Успех» (о творческом поиске театрального режиссера). На первой стоит остановиться — хотя бы из-за актерского ансамбля (В. Соломин, Л.Филатов, А. Филиппенко) и сюжета (трое не знакомых друг с другом людей — революционный матрос, казак и карточный шулер решают спасти приговоренную к казни подпольщицу, поскольку один из них полагает, что спасает свою невесту, носящую ту же имя и фамилию, а двое других думают, что помогают своей сестре). Фильм держит в напряжении до последней минуты, чего нельзя сказать о снятом О. Фоминым в 2000-е приключенческом же фильме «Господа офицеры. Спасти императора», несмотря на все попытки режиссера и сценариста удивить зрителя. Если в фильме Худякова героям Соломина и Филатова искренне сопереживаешь, то персонажам О. Фомина и М. Башарова — нет. И дело вовсе не в том, что мы не знаем заранее развязки «Кто заплатит за удачу?», тогда как финал «Спасти императора» предопределен (снять «альтернативная историю» про спасенного монарха пока — пока — никто не решился), а в профессионализме создателей фильма. Нынешняя же работа Худякова вызывает недоумение.
Отдельно стоит упомянуть и о богатой творческой фантазии сценариста Е. Райской. Скажем, она зачем-то спасает поэта Бессонова. Его не убивает дезертир. Более того, он чудом остается жив после бомбардировки санитарного обоза и спасается в лесу, выменивая медицинский спирт на провиант у местных крестьян, а после революции становится «пролетарским поэтом» (карикатура на первоначальный замысел Толстого и его изменение?). Еще причудливее складываются биографии Жадова и Лизы Расторгуевой, которая в фильме заметно отличается от чудаковатой, но самоотверженной Елизаветы Киевны из трилогии Толстого (исследователи творчества писателя полагают, что прототипом Расторгуевой послужила Елизавета Кузьмина-Караваева, более известная как мать Мария (Скобцова) — канонизированная РПЦЗ участница французского Сопротивления). Тут перед нами разворачивается сюжет в стиле Бонни и Клайда. Под стать лихой парочке и артист-анархист Мамонт Дальский в исполнении Д. Дюжева, почему-то разгуливающий по осенней Москве 1918 года в цилиндре. Он не попадает под трамвай, как его прототип — его убивает пуля Жадова-Мерзликина. Про последние серии и говорить нечего — Рощин (который в новой экранизации успел еще и поучаствовать в работе уголовного розыска — ловил лихую парочку, Жадова и Лизу!) и Телегин зачем-то меняются документами, старый знакомый Телегина по дореволюционному Петрограду красный командир Сапожков зачем-то хочет их расстрелять и запирает в сарае (казни удается избежать благодаря внезапному артобстрелу). Завершающую сцену трилогии с докладом Кржижановского об электрификации страны, а также персонажей третьей части заключительного романа — Ивана Гору, Агриппину, Лагутина и Анисью с другими красноармейцами убирают за ненадобностью. Финальные кадры сериала и вовсе противоречат замыслу А.Н. Толстого. Герои не вливаются в революционное строительство, а подвергаются репрессиям: Рощина расстреливают в конце 30-х, Катя умирает в ссылке, Телегин пропадает без вести на фронте осенью 1941-го, остается только одна Даша. Может, такая полемика с «красным графом» и имела бы смысл, если бы сценарист и режиссер в принципе тщательно отнеслись к материалу, а они этого не сделали.
Порой я ловил себя на мысли, что режиссер кое-где стремился к неоднозначному освещению событий столетней давности — все-таки в фильме показаны и забастовки рабочих в 1914 году, и их разгон казаками, сопровождавшийся человеческими жертвами. И вроде бы создатели сериала не идеализируют ни одну из сторон в Гражданской войне (сам Толстой во втором и третьем романах очевидно симпатизирует большевикам). Неубедительная режиссура и игра актеров, причудливая фантазия сценариста сводят на нет все попытки оправдания. Получился еще один фильм на тему «балы, красавицы, лакеи, юнкера». Справедливости ради вспомним, что в советское время (особенно в конце 70-х и в 80-х — примерно до 1987 г.) многие фильмы об Октябрьской революции и Гражданской войне снимались для того, чтобы выполнить план — потому и имеют соответствующую ценность. А лучшие фильмы историко-революционной тематики, где отражались противоречия эпохи, были сняты с середины 50-х по начало 70-х, и, как правило, являлись либо экранизациями произведений, созданных в 20-30-е («Тихий Дон», «Жестокость», «Сорок первый», «Бег», «Комиссар», «Седьмой спутник»), либо имели в основе сценарии Ю. Дунского и В. Фрида («Служили два товарища», «Гори, гори моя звезда», «Красная площадь»). Конечно, есть и исключения — в частности, «В огне брода нет». В юбилейном 2017 году на экраны вышли сериалы, о которых, скорее всего, лет через 10-20 будут вспоминать разве что кинокритики. Остается только надеяться, что никому в голову не придет снимать новую версию «Сорок первого», где поручик Говоруха-Отрок предстанет сошедшим со страниц монархических форумов «благородным офицером-националистом», а Марютка — «взбунтовавшимся шариковым в юбке». И страшно представить, что могли бы современные экранизаторы сделать с «;Конармией» Бабеля, «Ватагой» Шишкова, «Жестокостью» Сергеева-Ценского. А ведь при желании из этих произведений можно сотворить интересное кино.
http://scepsis.net/library/id_3811.html
movie-rippers.livejournal.com
|
Даша была несведуща в любовных делах, хотя они занимали ее больше, чем было нужно. То, что произошло в тот вечер между ней и Иваном Ильичом, - разочаровало Дашу. Это оказалось не тем, ради чего было написано столько поэм, романов и музыки, - этой заклинательной силы, вызывающей восторги и слезы, когда, бывало, Даша, одна, в пустой Катиной квартире, сидела за черным "стейнвеем" и вдруг, оборвав, вставала, сунув пальцы в пальцы, и если бы все тело ее не было в эти минуты холодноватым и прозрачным, как стекло, - то, что клубилось и кипело в ней, наверно бы, задушило ее. Даша вскоре тогда забеременела. Она очень любила Ивана Ильича, но стала гнать его от себя. Потом начались страшные месяцы, - голод и тьма петроградской осени, дикий случай на Лебяжьей канавке, окончившийся преждевременными родами, смерть ребенка и одно желание - не жить. Потом - разлука. Теперь все началось заново. Их чувство было сложнее и глубже былой невесомой влюбленности, в которой все казалось загадками и ребусами, как в пестро раскрашенном волшебном ящичке с неизвестными подарками. Оба они много пережили и ничего еще не успели передать друг другу. Теперь любовь их, - в особенности для Даши, - была полна и ощутима так же, как воздух ранней зимы, когда отошли ноябрьские бури и в легкой морозной тишине первый снег пахнет разрезанным арбузом. Иван Ильич все знал, все умел, на все мог найти ответ, разрешить любое сомнение. И раскрашенный волшебный ящичек снова выплыл перед Дашей, но в нем уже не своевольные, самодовлеющие ощущения, не ребусы и загадки, - в нем были подарки, радости и горести суровой жизни. Одно ей не совсем было понятно в Иване Ильиче и стало даже огорчать Дашу, - его сдержанность. Каждый вечер, ложась спать, Иван Ильич делался озабоченным - переставал глядеть на Дашу, снимая сапоги, кряхтел на лавке, иногда, уже разувшись, говорил: "Дашенька, родная, спи, милая", - и уходил босиком через холодные сени в канцелярию; возвращался на цыпочках и осторожно, чтобы не заскрипела кровать, ложился с краю и сразу засыпал, накрывшись с головой шинелью. А днем он был весел, жизнерадостен, румян, - убегал и прибегал, целовал Дашу в щеки, в ее русую, теплую, милую голову. - Еще раз здравствуй, мать командирша... Ну что - налаживается у тебя? Об этом он спрашивал тридцать раз на дню. Даше было предложено комиссаром Иваном Горой наладить местными силами полковой театр. С перепугу Даша отказалась было: "Господи, так я же ничего не понимаю..." Иван Гора похлопал ее по руке: - Справитесь, голубка, научитесь на ошибках, - и не такие дела вытягивали. Лишь бы нам от этой обыденщины отойти. Валяйте что-нибудь революционное, задушевное, чтобы у бойцов глаза щипало. Комиссар очень заторопил с театром. Качалинский полк, пополненный и переобмундированный из скудных запасов царицынского интендантства, готовился вскорости выступить на фронт. Несмотря на утомительные строевые занятия, на два часа ежедневного политпросвещения, бойцы, отъевшись на хуторах, начинали баловаться от избытка сил. Был созван митинг. Сергей Сергеевич Сапожков выступил на нем, после стольких лет молчания дождавшись случая раскрыть рот, чтобы выбросить в мир кучу идей, распиравших его. Он сказал о революционной ломке театра, об уничтожении всяких границ между сценой и зрителем, о будущем театре под открытым небом или в гигантских цирках на пятьдесят тысяч зрителей, где будут участвовать целые, полки, стрелять пушки, подниматься воздушные шары, низвергаться настоящие водопады и героическими персонажами будут уже не отдельные актеры, но массы. - Где вы, грядущие драматурги? - размахнув руками, будто силясь взмыть под стропила сарая, спрашивал Сапожков у красноармейцев, весело слушавших его, хотя и туманны были многие его слова и чересчур быстро он низал их одно к одному. - Где вы, драматурги нашей непомерной эпохи? Новые Шекспиры? Софоклы, сошедшие с мраморных пьедесталов, чтоб разделить с нами пир искусства, пир творчества? Разве был когда-нибудь так раскрыт перед вами человек? Разве история выбрасывала когда-нибудь столь роскошные груды идей? Само собой, Даша после такого выступления совсем оробела. Но отступать было некуда. Она поехала вместе с Сапожковым в Царицын за книжками, холстом, красками. Кое-что удалось достать. Сергей Сергеевич надавал ей много полезных, а еще более сумасшедших советов. Решено было безо всякой предварительной волокиты подобрать актеров и сразу начинать репетировать "Разбойников" Шиллера. Телегин был в восторге не столько от предстоящей постановки "Разбойников", сколько от того, что Даша наконец нашла работу, увлечена ею, бегает, суетится, разговаривает с красноармейцами, сердится, иной раз плачет от досады и теперь уже не вернется (как ему в простоте душевной казалось) к напряженной сосредоточенности на одних своих переживаниях. Приказом по полку в драматическую труппу были отчислены Агриппина, Анисья, Латугин, - ходивший к комиссару, чтобы его не обошли в этом деле, - Кузьма Кузьмич, Байков и еще несколько красноармейцев, гармонистов, балалаечников и певцов. Вечером в сарае при свете огарка Даша прочла пьесу. В скудном освещении лица актеров едва проступали сквозь пар от дыхания. В щели ворот поднявшийся ветерок наносил снег. Даша читала ясным, чистеньким голосом, стараясь по памяти подражать тому, как читал когда-то Бессонов: одна рука за лацканом черного сюртука, отрешенный от жизни голос, и слова, как кусочки льда, и жадно глотающие их, тяжело. дышащие литературные дамы - вокруг на креслицах... Уже с середины чтения Даша поняла, что пьеса не нравится, хотя в ней были сделаны большие вымарки. Под конец Даша совсем заторопилась. Окончив, сказала после тягостного молчания: - Ну вот, это - "Разбойники" Шиллера, которых мы должны играть... Мужчины закурили, один из них, Латугин, - негромко: - Умственная штучка. Тогда Кузьма Кузьмич, достав из кармана свежий огарок, зажег его и сел рядом с Дашей. - Товарищи, Дарья Дмитриевна ознакомила нас с произведением, теперь я его прочту. И он, взяв у нее книгу, начал громко читать, изображая голосом и всем лицом то отцовскую скорбь старика графа Моора, то шипел с присвистом, и нос его приплющивался, и глаза лезли наискось: "...Я был бы жалким ротозеем, когда бы не смог исторгнуть любимчика сына из родительского сердца, хотя бы он был прикован к нему железными цепями... О совесть! Отличное пугало для воробьев... Плыви, кто может плыть, а кто тяжел, - тони..." И слушатели воочию видели ползучего гада Франца Моора. Но вот голос Кузьмы Кузьмича крепнул, рукой он ерошил волосы, сбивая их над лысиной, страшно вытягивались губы у него, блестели глаза благороднейшим гневом: "О люди! люди! Лживые, коварные отродья крокодилов! На устах - поцелуй, в руке - кинжал, чтобы вонзить в сердце... Ад и тысячу дьяволов! Пылай огнем, терпенье благородного мужа, превращайся в тигра, кроткая овца..." Анисья Назарова тихо ахала; Латугин весь подался к свече, озаряющей волшебную книгу, по строчкам которой ползал ноготь Кузьмы Кузьмича. Сам Карл Моор гремел в темном сарае, - взбунтовавшийся человек, понятный взволнованным слушателям. Да еще какие находил слова, чтобы рассказать о своих обидах, вот это - пьеса, бьет под самый корень! Когда догорел огарок и Кузьма Кузьмич мрачно проговорил последние слова Карла, вспомнившего, идя на страшную казнь, о бедняке-поденщике, - Анисья и Агриппина стали вытирать глаза рукавами шинелей. "Правдивая вещица", - проговорил Латугин. И все сошлись на том, что Карл зря, сгоряча, неправильно убил возлюбленную Амалию, ее надо было взять в шайку, перековать. В этом месте Шиллера придется поправить, иначе из-за такой мелочи хорошая пьеса не понравится красноармейцам, и могут быть даже вредные последствия среди бойцов. Амалию, тут же у стола, решили не закалывать, а Карл ей говорит: "Иди домой, несчастная", - заплакав горько, она уходит. Анисье поручили играть Амалию, Карла - взялся Латугин. Подлеца и гада Франца хотели дать Байкову, - побоялись: не удержится, станет смешить публику; красноармейцы, как увидят его бороду, - так и грохнут. Решили: Франца играть Кузьме Кузьмичу, а чтобы он казался помоложе - обязать его наголо обриться. Старика графа Максимилиана фон Моора отдали красноармейцу Ванину, с густым голосом. Остальные роли расхватали Агриппина и молодые бойцы. Кто-то принес паклю и керосину, в сарае стало светло от дыма горящего факела. Не расходясь, начали репетировать. Даша вернулась, домой только под утро и еще долго рассказывала Ивану Ильичу, - он, босиком, в накинутой шинели, сидя на кровати, хохотал до слез... - Латугин Карла Моора играет? (И он прыскал и хрюкал, держась за живот.) Ой, не могу... Да знаешь ли ты, зачем он Карла Моора взялся играть, прохвостище? Он за Анисьей ухаживает... А ему Шарыгин обещался печенку вырвать... А Кузьма Кузьмич? Франца... Этот может... В чем же они - не в гимнастерках же будут ломаться? Я пошлю завхоза, на хуторе одном какой-то присяжный поверенный из Петрограда застрял с чемоданами... Разживемся сюртуками и фраками... - Ты так хрюкаешь, что просто нет охоты ничего тебе рассказывать. Пусти меня. - Даша залезла в кровать и улеглась к самой стене, спиной к мужу. Когда он осторожно подоткнул ей одеяло и прикрыл ноги шинелью, так как печь уже остыла и в хате было свежевато, Даша проговорила, засыпая: - Все будет хорошо. В полку теперь только и говорили что о театре. Сапожков прочел лекцию о немецкой литературе времен "Бури и натиска", где сравнивал бурных гениев - Шиллера, Гете, Клингера - с молодыми орлятами, разбуженными приближающимися зарницами Великой французской революции. Сапожкову посыпалось столько вопросов, что пришлось объявить ряд лекций по истории конца восемнадцатого века. Он все ночи просиживал при свете коптилки, строча карандашом и выжимая свою память, так как за неимением книг и справочников довольствовался дымом махорки. На лекциях вопросы сыпались, как горный обвал, - красноармейцы хотели все знать. Упомяни он о чем-либо, - давай подробно. Дернуло его обмолвиться о декабристах, - давай их сюда, рассказывай. Его слушали по многу часов, перемогая усталость, - иные задремывали и опять встряхивались. Увлекательна была повесть о давно прошедшем времени, о чужой стране, где вот так же люди, вздев на пику красный колпак, пошли напролом одни против всего мира. Голодные и разутые, выдумали новую военную тактику, чтобы победить. И, победив, были скручены по рукам и ногам теми, кому не догадались вовремя отрубить головы. - О Максимилиан Робеспьер, Максимилиан Робеспьер! - восклицал Сапожков одним хрипом сорванного голоса. - Ты мог победить, ты мог спасти революцию! Твой роковой день, когда ты сорвал черное знамя Коммуны с парижской ратуши... Уже пели петухи по дворам, приходил комиссар Иван Гора и гудел: - Товарищи, через три часа побудка. Суфлируя, Даша прерывала: - Стоп! Товарищ Ванин, вы изображаете какого-то покойника. Не нужно нарочно кашлять, откуда у вас этот отвратительный натурализм? Горячее, вкладывайте больше души... Все сначала. Даше попался среди привезенных из Царицына книг театральный журнал со статьей Кугеля: "За неимением гербовой - пишут на простой", наполненной руганью по адресу Художественного театра. Автор вспоминал великих русских трагиков, потрясавших умы и сердца звероподобной гениальностью. Тогда театр был языческим храмом, занавес казался таинственным покрывалом Таниты. Увы, порода гигантов-трагиков вымерла, последний из них, Мамонт Дальский, променял свои котурны на колоду карт. Великих потрясателей душ заменил режиссер, ученый господин, предложивший почтеннейшей публике вместо распятой перед зрительным залом человеческой души - настроение, колышущиеся занавески, двери с настоящими косяками и жужжание комаров... "Нет, - восклицал автор, - истинный театр - это косматое чудовище страстей!" Из статьи Даша почерпнула также кое-какие практические сведения, помогавшие ей репетировать. Латугин и Анисья сидели в стороне, дожидаясь выхода. За эти несколько дней у нее осунулось лицо, - еще бы, нелегко было влезать в чужую жизнь. Анисья потеряла аппетит, еда стала ей противна. Думала, думала, как ей поверить в Амалию? - и нашла лазейку, увидав в книге изображение этой барышни в широком платье (Амалия грустила, подперев рукой щечку). Анисья долго, со вздохами, рассматривала картинку, прикинула: вот тогда, в моем-то горе, куда горчайшем, брела я, спотыкаясь, от села к селу, не видя света от слез, протягивала руку за куском черствого хлеба... Нет, картинка неправильная. Ей бы, Амалии, - пускай в шелках, бархатах, - Анисьино горе, - вот бы как заломила руки в коротеньких рукавчиках с кружевцами, вот бы как завела глаза! Так, понемногу, Амалия фон Эдельрейф, возлюбленная Карла Моора, стала Анисьей. Вчера на репетиции все даже приумолкли, когда она, сняв высокую шапку с нашитой звездой из кумача и коснувшись рукой рассыпавшихся волос, села на табурет и заговорила, будто беря рукой за сердце: "О, ради бога! Ради всех милосердии! Мне уже не нужно любви... Одной смерти прошу я... Покинута, покинута! Понимаешь ли ты ужасные звуки этого слова: "покинута"..." Сегодня утром на строевых занятиях отделенный за полнейшую невнимательность Анисьи вкатил ей наряд вне очереди; пришлось вмешаться комиссару, и ограничились строгим выговором. Сейчас она тихо сидела рядом с Латугиным, - в больших синих глазах ее бродила мечта, губы ее, то улыбаясь, то вздрагивая, беззвучно произносили слова. - Была у нас Саша, девчонка, с ясненькими глазами, - вполголоса говорил ей Латугин, - мне четырнадцать в ту пору, ей - семнадцать. Походка у нее, что ли была особенная? Идут девушки с поля, и она с ними, - полушалочка, кофтенка канареечная, идет с граблями, будто вот сейчас к тебе прильнет... Пропили за хрыча, поникла моя Саша... А ты спрашиваешь, отчего наш брат мечется! (Он говорил, у Анисьи чуть розовели щеки, будто ее ласкали.) Небывалой жизни ищем, небывалой, непробованной, дорогая моя Анисья. Об одной все думаем, о такой, какую и во сне не увидать... - Таких не бывает. - Тебе знать! В Тихом океане на коралловом острове такие-то живут. Анисья посмотрела на его бычье лицо с широко расставленными глазами, и опять в ней что-то дрогнуло, и горячая, влажная нежность прошла по ее телу. Но теперь не томление покорное, бабье, - нет, этого уже больше нет, спасибо за то времечко! - теперь ей стало весело, - усмехнулась: - А ты там бывал? - Что ж из того... В лоции об этом написано. - В какой такой лоции?. - В морской книге о разных чудах. - Несешь ты, Латугин, горе тебя слушать. - А ты слушай, а я буду врать. А вот тебе правда: задумал я, Анисья, с тобой нехорошо сделать, да был у меня разговор с одним человеком. Сунули меня, как кота мордой, в это самое... Ладно... Человек - царь природы. Спасибо за науку... Анисья опять, но уже с удивлением, взглянула на него. Латугин так повысил голос, что Даша постучала карандашом: "Товарищи, мешаете репетировать". - На Керженце у нас скопцы живут, - шепотом продолжал он. - Холостят себя через то, что не могут с собой справиться. Один рассказывал: "Снится мне жар-птица, снится, - раскроешь глаза - серая тоска..." И злодействуют, и жен лупят до полусмерти... Идет он к своему коновалу - белому голубю: "Спаси мою душу", - и тот его гасит, как свечу... "Живи, мерин, благополучно, господь с тобой..." Нет, Анисья, кровью умоемся, в трех щелоках вываримся, - поймаем ясную птицу, хоть она на край жизни улети... Даша стучала карандашом. - Товарищи, Карл, Амалия, последняя сцена, делайте перестановку... Когда утренняя малиновая, морозная заря проступила за дымами хутора, - около хаты, где помещался штаб полка, соскочил верхоконный, бросил заиндевевшую лошадь и бешено начал стучать в дверь. Иван Ильич сам отворил ему. Красноармеец передал пакет. В тот же день были мобилизованы подводы на ближних хуторах, и полк выступил в поход. Начиналось окружение Царицына донской армией, - третье по счету с августа месяца. На этот раз генерал Мамонтов брал Царицын в клещи, с флангов. Верстах в пятидесяти севернее города три конных полка генерала Татаркина внезапным ударом прорвали фронт и выскочили к Волге около поселка Дубовка. На день позже, на юге под Сарептой, стала наступать конница генерала Постовского. Сарепту прикрывали части Стальной дивизии Дмитрия Жлобы. Самого Жлобы уже не было: он разругался с военсоветом, запретившим ему самоснабжение и своевольство, и, опасаясь ареста, кинулся в Москву - жаловаться. В Стальной дивизии шло брожение, - одни говорили, что батько Жлоба вернется командармом, другие, что батько арестован и "треба всей громадой" идти на Царицын - выручать его, но больше верили слухам, что батько бежал в Астрахань и там собирает вольницу. Тысячи полторы конных бойцов, снявшись с фронта, переправились через Волгу и ушли левым берегом на Астрахань. Стальная дивизия была растрепана, генерал Постовский занял Сарепту и навис с юга над Царицыном. В предвидении этих фланговых ударов военсовет Десятой еще за неделю до того стал сосредоточивать ударную группу из двух кавалерийских бригад: доно-ставропольской и бригады Семена Буденного. Но они не успели соединиться, - произошел прорыв, и всю силу удара приняли на себя доно-ставропольцы. На помощь к ним день и ночь гнал коней Буденный. К месту сосредоточения ударной группы были брошены качалинцы. Весь остаток дня и с коротким привалом всю следующую ночь полк двигался в направлении на мутное зарево в морозной мгле. Оно сбивало свет зари; солнце поднялось правее его, лишь ненадолго показавшись между раскалившимися, как медь, слоистыми тучами. Телегин, Иван Гора и Сапожков ехали верхами, позади них по снежной степи во много рядов растянулись телеги с красноармейцами, пушки и обозы. Вдалеке маячили конные разведчики. Оба командира и комиссар с удивлением слушали сердитые вздохи артиллерийской стрельбы, доносившиеся не так уже издалека. Они пустили коней рысью, опередив полк - съехались, остановились и, вынув из планшета карту, стали рассматривать ее. Место, куда приказано было прибыть полку, находилось еще далеко, но слышимость орудийной стрельбы указывала, что фронт придвинулся. Связи у них с ним не было ни по проволоке, ни по конной цепочке. Такая неясность могла быстро повернуться гибелью. - Степь проклятая, ползем, как жуки по скатерти, - сказал Иван Гора, - хорошо, если казачишки нас еще не выследили. - Ну, как не выследили, - сказал Телегин, - у них своя почта, от самых хуторов за нами следят. Сапожков, нахлобучив папаху по самые брови, ускакал к разведчикам. Подходили передние воза на тяжело дышащих, косматых от пота лошадях. Иван Ильич приказал соскочившим красноармейцам бежать - махать и кричать отставшим, чтобы подтягивались и держались плотнее. Пробираясь между телегами, он увидел Кузьму Кузьмича, обвязанного по ушам тряпицей, - он правил лошадью; на куче декораций сидела Даша, в башлыке, в нагольном белом кожухе, лицо ее было, как у маленькой, ярко-румяное и заспанное. Щурясь от снежного света, она что-то закричала ему, но за скрипом телег, шумным говором он ничего не расслышал. Потом увидел Агриппину, сидевшую с тремя красноармейцами, - она тоже что-то начала кричать, указывая варежкой на небо. Чего ей там понадобилось? Иван Ильич запрокинулся в седле. Ясно виднелся самолет - черной птичкой, пониже слоистого облака, под которым расходились мглистые солнечные лучи. Теперь его увидели все. Иван Ильич, ударив лошадь, врезался между возами. "Рассыпайся!" Огромный Иван Гора, привстав на стременах, заорал басом: "Огонь по самолету!" Мимо Ивана Ильича промчалась телега, - Даша со страшными глазами и Кузьма Кузьмич, хлещущий лошадь концами вожжей. Началась беспорядочная стрельба. Свирепо ревущий самолет с отогнутыми крыльями стал уходить за облака, из брюха его посыпались яйца, со свистом понеслись вниз и взорвались на чистом снегу черными кустами. Такую страсть многие из красноармейцев видели в первый раз, - иные телеги ускакали далеко в степь. Протяжно заиграла труба, собирая рассыпавшийся строй. И долго еще молодые ребята опасливо поглядывали на облака. Теперь надо было ждать и самих казаков. Телеги шли ось к оси, тесными рядами. С пушек, ползущих внутри вытянутого четырехугольника, были сняты чехлы. На закате дня впереди залиловели очертания селенья. Оттуда рысцой возвращался Сапожков с двумя разведчиками. Возбужденный и веселый, подъехал к Телегину и Ивану Горе, снял папаху, взъерошил мокрые волосы: - Все в порядке, на хуторе никого, кроме баб и ребят. Дальше, верстах в пяти, станица, там - казаки... - Казаки, казаки, утешили тоже! - сердито перебил Иван Гора. - А где наши? - Не знаю же, тебе говорят... Наши от станицы отошли, а на хуторе их и не было... - Хутор надо занимать, - сказал Иван Ильич, - покуда не свяжусь с фронтом - ни шагу дальше хутора не двинусь. В сумерках заняли хутор, раскинувшийся по берегу запруженного оврага. Красноармейцы стучали в ставни, кричали устрашающе: "Хозяева, вылазь!" Заходили в натопленные, темные хаты. Лишь кое-где за печкой обнаруживали где женщину с ребенком, где бормочущую со страху бабушку. Все мужское население убежало в станицу. Телегин приказал окапываться. Оба конца улицы загородили сдвинутыми возами. Сапожкова он еще засветло послал с охотниками в глубокую разведку, чтобы за ночь связаться с фронтом. Ночь прошла тревожно. Хотя казаки не большие охотники драться по ночам, все же можно было ждать от них всякой пакости. Иван Ильич и Иван Гора ходили из конца в конец хутора, пробирались по еще зыбкому льду на ту сторону пруда. Небо было непроглядно, орудийная стрельба на северо-востоке затихла. Поднимался ветер, тянущий сыростью, мороз спадал, и снег уже не хрустел под ногами. - В мышеловку, ну чисто в мышеловку попали, - гудел Иван Гора, угрюмо шагая рядом с Телегиным, - не смогли довести полка... Позор! Нас ищут, мы ищем, что за хреновина! Кто виноват, ну - кто? - Брось ты, никто не виноват. - С кого первого спросят? С меня. И правильно. Комиссар в степи с полком потерялся, ах, хреновина!.. Гулко раздался одинокий выстрел. Иван Гора с размаху остановился. Были слышны удары его сердца. И сразу началась ураганная стрельба и так же внезапно затихла. В темноте лишь переговаривались люди, выскочившие спросонок из хат. - Нервничают ребята, - сказал Иван Ильич. - Молодежь необстрелянная. Давай покурим. Перед рассветом он зашел на минутку в хату, осторожно шагая через ноги спящих, ощупью добрался до печки. Дашина рука в темноте отыскала его и погладила по лицу, он прижал к губам ее теплую ладонь. - Что ты не спишь? - Знаешь, я о чем, Иван, - если мы долго простоим на хуторе, - в конце концов можно сыграть "Разбойников" под открытым небом и даже просто в шинелях, не в этом суть... - Ну конечно, Дашенька. - Так горячо у нас пошло - жалко, если они все растеряют... - Правильно... Я завтра взгляну, - может быть, сарай какой-нибудь найдется... Спи, деточка... Он опять вышел на улицу и глубоко вдохнул сырой ветер. После стольких лет тоски по счастью Иван Ильич никак не мог привыкнуть к тому, что оно было в двух шагах, в низенькой хате, на теплой печи, под овчинным тулупчиком... "Не спит, в тревоге... И ведь ни словечка... Только обрадовалась, лапку протянула... Что за удивительная женщина!.." То, что она отыскала его в темноте, и погладила, и прижала ладонь к его губам, так взволновало Ивана Ильича, что и на ветру лицо его пылало... Неужели он все-таки ошибается? "Нет, дорогой мой, эти глупости - прочь... Подруга - да, да, да... Верная - да, да, да... И на том будь счастлив..." Он никогда не мог забыть тех темных вечеров в Петрограде, когда, прибегая с добытым пирожком, с конфеткой какой-нибудь для Дашеньки, он внушал ей только отвращение и ужас... Значит, в нем было такое и никуда оно не девалось. Но, боже мой, до чего он любил эту женщину, до чего желал ее! Из темноты подошел Иван Гора, глубоко засунувший руки в карманы бекеши. - А если они Сапожкова у нас перехватят? - Очень возможно. Я на рассвете высылаю вторую разведку. - Раньше, гораздо раньше надо было все это делать!.. - Иван Гора вытащил руку из кармана и постукал себя кулаком по лбу. - Не оправдал доверия, коммунист! Выдеремся из этой истории благополучно, - все равно не прощу себе... Я бы такого комиссара повел вон за тот амбарчик: прощай, товарищ! - Иван Степанович, я в такой же мере виноват, если хочешь... - Брось, брось. Ну - пойдем, давай закуривай... Всю эту ночь Сергей Сергеевич Сапожков с пятью разведчиками-охотниками колесил по степи, в надежде обнаружить какие-либо признаки фронта. Но степь была глуха и непроглядна. Зажигали спичку и ориентировались по компасу. Некормленые лошади приустали, а та, на которой был навьючен пулемет, захромала и тянула повод. Сапожков приказал спешиться, разнуздать, отпустить подпруги. Из заседельных мешков достали пшеницы, насыпали в шапки, стали кормить лошадей, поставив их спиной к ветру. - Товарищ командир, я нашел объяснение, почему мы не смогли соприкоснуться с фронтом, - сказал Шарыгин, как всегда вдумчиво подбирая слова. - Фронт сконцентрировался... (Он озяб, губы у него плохо шевелились.) Мы подтянули фланги в район боя, и казаки сконцентрировались... Возможен такой факт? - О казаки, казаки, лживые и коварные отродья крокодилов! Ад и тысячу дьяволов! - серьезно проговорил Латугин. Трое молодых красноармейцев (мобилизованные на казачьих хуторах) прыснули со смеху. Шарыгин сейчас же ответил: - Не всегда шутка к месту, товарищ Латугин. Нахальство надо попридержать в серьезных делах. Сапожков тихо: - Будет, ребята, не ссориться. Лошади позвякивали удилами, с хрустом жуя пшеницу. За спинами у разведчиков посвистывал ветер в дулах винтовок. - Жри, не балуй, холера! - прикрикнул Латугин, когда лошадь, выдернув голову из шапки, начала ему кланяться. Давеча, на хуторе, у колодца, где собрались красноармейцы, Сергей Сергеевич Сапожков крикнул охотников в разведку, и первым подошел к нему Шарыгин: "Я иду с вами", - причем не удержался, добавил, волнуясь: "Не подумайте, товарищ командир, я не из лихачества выскакиваю, но, как комсомолец, сознательно, так сказать...". Латугин, который привел к колодцу артиллерийскую упряжку и смеялся с красноармейцами, услышал это, увидал красное, возбужденное лицо Шарыгина... "Ах, черт курносый, подумал, нет, врешь, не обскачешь..." И, подернув плечами, подошел к Сапожкову. - Не лишний буду у вас, Сергей Сергеевич? А то - сбегаю на батарею, отпрошусь. Всю дорогу он цеплялся к Шарыгину и смешил красноармейцев. Сейчас его обозвали нахалом, и командир сделал замечание. Так! Латугин высыпал из шапки в горсть остатки зерна, бросил их в рот: - Языка надо добыть, что ж без толку по степи кружиться... Тогда будем знать - где фронт сконцентрировался... - Правильно, - подтвердил Шарыгин, - дельное предложение. - Ну, товарищи, по коням! Сапожков надел шапку, взнуздал лошадь, кряхтя подтянул подпруги и вскочил в седло. Перед рассветом стало подмораживать, и ночь была уже не так темна. Предутренний зеленоватый свет обозначил мутные края облаков. Ребята, нахохлившись, трусили рысцой. - Стой! Вон, они! - Латугин, роняя шапку, через голову потащил карабин. - Шестеро... семеро! - В зеленоватой мути только его морские глаза могли увидать что-то совсем неразличимое... - Да нет же, черт, - шипел он съехавшимся разведчикам. - Не туда глядишь, вон они - чуть брезжут... Пока торопливо развьючивали пулемет, послышался топот лошадей и обозначились преувеличенные, неясные очертания всадников. - Снохачи, клади оружие, сдавайся! - диким голосом закричал Латугин. Не по-кавалерийски ударил лошадь дулом карабина и поскакал, и, догоняя его, поскакал вслед Шарыгин. "Назад, назад!" - надрывался Сапожков. Приостановившиеся было казаки, - видимо, тоже разведчики, - повернули коней и стали уходить. Латугин с седла выстрелил несколько раз; под одним, скакавшим позади (остальные уже едва были видны), лошадь кинулась вбок и повалилась. Латугин и Шарыгин завертелись вокруг соскочившего человека. "Давай сюда, товарищи!" - звал Латугин, возясь с ним около упавшей лошади. Когда к нему подбежали, он уже сидел верхом на казаке и крутил ему руки. "Небольшой, а какой здоровый дядька..." Казак лежал ничком, щекой в снегу, и хрипел, морщинисто зажмурив глаза. Ему приказали встать, толкнули его, перевернули на спину. Казак начал ругаться забористо, сложно, так, будто нарывался, чтобы его скорее прикончили. Сапожков, побледнев, ударил его ножнами шашки: "Встань!" Казак, приподняв голову, дико взглянул на него, встал, пошатываясь. Был он невелик ростом, покатый в плечах, с широкой, как сияние, бородой, забитой снегом. - Типун тебе на язык, матерщинник, куродав! - закричал на него Сапожков. - Перед тобой командир полка, отвечай на мои вопросы. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]/ Полные произведения / Толстой А.Н. / Хождение по мукам | Смотрите также по произведению "Хождение по мукам": Мы напишем отличное сочинение по Вашему заказу всего за 24 часа. Уникальное сочинение в единственном экземпляре. 100% гарантии от повторения! |
www.litra.ru
|
Поиск Лекций
Толстой Алексей
Алексей Николаевич Толстой Хождение по мукам книга 1 * КНИГА ПЕРВАЯ. СЕСТРЫ * О, Русская земля!.. ("Слово о полку Игореве") Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолустного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих - озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, - видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель - благонамеренный - прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее очарование. Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору - худую бабу и простоволосую, - сильно испугался и затем кричал в кабаке: "Петербургу, мол, быть пусту", - за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец - мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу. И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночь на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург - лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой. Как сон, прошли два столетия: Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью; бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни, с могучим сложением и черными от земли руками, и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь. С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею петербургские призраки. Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на рассвете, в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт - парад войскам перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. - Так жил город. В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, не виданной еще роскоши столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове. В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно - роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был, как заразой, поражен дворец. И во дворец, до императорского трона, дошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале "Красные бубенцы", - и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить. То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности. Девушки скрывали свою невинность, супруги - верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения - признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными. Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго - предсмертного гимна, - он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники новое и непонятное лезло изо всех щелей. - ...Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим: довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что - ее можно кушать? Или она способствует ращению волос! Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша? Но искусство, искусство, брр! Вам все еще нравится щекотать себя этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки! Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин, и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это - портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием... В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Сергей Сергеевич Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступенькам большой дубовой кафедры. Сбоку, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества "Философские вечера". Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин. Общество "Философские вечера" в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен. Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым стриженым черепом, с молодым скуластым и желтым лицом - Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и когда спрашивали: откуда и кто такой? - знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия его была не Акундин, приехал он из-за границы и выступал неспроста. Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихший зал, усмехнулся тонкой полоской губ и начал говорить. В это время в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка, в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались, на огоньках свечей. Когда Акундин, стукнув по дубовой кафедре, воскликнул: "Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу", девушка Вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель. Акундин говорил: - ...А вы все еще грезите туманными снами о царствии божием на земле. А он, несмотря на все ваши усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как валаамова ослица? Да, он проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадильниц, народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верю. Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит. Здесь, в Петербурге, в этом великолепном зале, выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Боюсь, как бы эта забава не окончилась большой кровью... Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса: - Пускай говорит! - Безобразие закрывать человеку рот! - Это издевательство! - Тише вы, там, сзади! - Сами вы тише! Акундин продолжал: - ...Русский мужик - точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом, покуда не лишат его наконец когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса: ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов, и народ, о котором вы ничего не хотите знать... Мы здесь даже и не критикуем вас по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды - человеческой фантазии. Нет. Мы говорим: спасайтесь, покуда не поздно. Ибо ваши идеи и ваши сокровища будут без сожаления выброшены в мусорный ящик истории... Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное было иное, о чем эти люди не говорили... За зеленым столом в это время появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком черном сюртуке: худое матовое лицо, брови дугами, под ними, в тенях, - огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала. Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе-красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто снившимся ей в ветреные петербургские ночи. Вот он, наклонив ухо к соседу, усмехнулся, и улыбка - простоватая, но в вырезах тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее. В это время докладчик Вельяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину: - Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды. Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы знаем, высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. "Жажду" - вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли божественной влаги. Берегитесь, - Вельяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей, - в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить человека в живой механизм, в номер такой-то, - человека в номер, - в этом страшном раю грозит новая революция, самая страшная изо всех революций - революция Духа. Акундин холодно проговорил с места: - Человека в номер - это тоже идеализм. Вельяминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, куда отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали. Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми пьяными глазами на проходящих. Две, средних лет, литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнуто растрепанными волосами - Чирва - критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вельяминов; одна из литературных дам бросилась к нему, вцепилась в рукав. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, Отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы. Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза. Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый истощенный юноша, в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные длинные черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал: - Вот? Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна? - То же, что и вы, - ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок. Он захихикал, глядя еще нежнее: - Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня, как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться. Но самая сущность его мысли - разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет. Вот: Каждый молод, молод, молод. В животе чертовский голод, Будем лопать пустоту... Необыкновенно, ново и смело, Дарья Дмитриевна, разве вы сами не чувствуете, - новое, новое прет! Наше, новое, жадное, смелое. Вот тоже и Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две, три таких зимы, - и все затрещит, полезет по швам, - очень хорошо! Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь. Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке. Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуб и калош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых с махающими дверями сеней, где стояли рослые, в синих мокрых кафтанах, извозчики и весело и нагло предлагали выходящим: - Вот на резвой, ваше сясь! - Вот по пути, на Пески! Вдруг за Дашиной спиной голос Бессонова проговорил раздельно и холодно: - Швейцар, шубу, шапку и трость. Даша почувствовала, как легонькие иголочки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бессонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно подались, и Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце. - Если не ошибаюсь, - проговорил он, наклоняясь к ней, - мы встречались у вашей сестры? Даша сейчас же ответила дерзко: - Да. Встречались. Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студеный ветер подхватил ее платье, обдал ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой воротник. Кто-то, перегоняя, проговорил ей над ухом: - Ай да глазки! Даша быстро шла по мокрому асфальту, по зыбким полосам электрического света. Из распахнувшейся двери ресторана вырвались вопли скрипок - вальс. И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый мех муфты: - Ну, не так-то легко, не легко, не легко! Расстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной: - Дома никого нет, конечно? Великий Могол, - так называли горничную Лушу за широкоскулое, как у идола, сильно напудренное лицо, - глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни действительно дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса. Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено. Зять, Николай Иванович, дома, - значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас - одиннадцать, и часов до трех, покуда не заснешь, делать нечего. Читать, но что?. И охоты нет. Просто сидеть, думать - себе дороже станет. Вот, в самом деле, как жить иногда неуютно. Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одною рукою начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да еще по нелепой какой-то чистоплотности слишком суровой с теми, - а их было немало, - кто выражал охоту развеивать девичью скуку. В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный; жили они шумно и широко. Даша была моложе сестры лет на пять; когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была еще девочкой; последние годы сестры мало виделись, и теперь между ними начались новые отношения: у Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны - нежно любовные. Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, уменьем вести себя с людьми. Перед Катиными знакомыми она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы; она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой. Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, - вся эта чугунная, циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения. Каждый вторник у Смоковниковых, в столовой из птичьего глаза, собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику; нервно расстроенный критик Чирва, подготовлявший очередную литературную катастрофу. Иногда спозаранку приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресло. В средине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши и бархатный голос произносил: "Приветствую Тебя, Великий Могол!" - и затем над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера: - Катюша, - лапку! Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем же, кто бывал слишком внимателен, ревновала, глядела на виноватого злыми глазами. Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала: у них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. Любовника-резонера она ненавидела: он не имел права сестру звать Катей, Великого Могола - Великим Моголом, не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислые глаза на Дашу и приговаривать: "Пью за цветущий миндаль!" Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости. Щеки у нее действительно были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки. На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестрорецке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала, под звездами. Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое, вышитое гладью платье, большую шляпу из белого газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине, и в Дашу неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя - Никанор Юрьевич Куличек. Но он был из "презираемых". Даша возмутилась, позвала его в лес и там, не дав ему сказать в оправдание ни одного слова (он только вытирался платком, скомканным в кулаке), наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то "самку", что она возмущена, считает его личностью с развращенным воображением и сегодня же пожалуется зятю. Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая холеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины щеки, на гневно дрожащую большую шляпу, на всю тонкую, беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать, вынул платок, вытирал глаза, приговаривая: - Уйди, Дарья, уйди, умру! Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличек теперь не смел даже глядеть на нее, худел и уединялся. Дашина честь была спасена. Но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противный. Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты; ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой. Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало, моря шел пар и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки. Но, пригревшись на солнышке или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть с себя, как кровь с заколдованного ключа Синей Бороды. Все знакомые, а первая - сестра, стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала: - Что же это с нами дальше-то будет? - А что, Катя? Даша в рубашке сидела на постели, закручивала большим узлом волосы. - Уж очень хорошеешь, - что дальше-то будем делать? Даша строгими, "мохнатыми" глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем. - Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила, мне это неприятно понимаешь? Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками. - Какие мы рогатые уродились: ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку. Однажды на теннисной площадке появился англичанин - худой, бритый, с выдающимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл, как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул - глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, - засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самой сеткой мяч, Даша думала: "Вот ловкая русская девушка с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу". Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше - был он совсем сухой, - закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду. Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз покосилась в сторону англичанина, - он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинув соломенную шляпу на затылок, и, не оборачиваясь, глядел на море. Ночью, лежа в постели, Даша все это припомнила, ясно видела себя, прыгавшую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от уязвленного самолюбия и еще чего-то, бывшего сильнее ее самой. С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала: - Даша, мистер Беильс о тебе справляется каждый день, - почему ты не играешь? Даша раскрыла рот - до того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать "глупых сплетен", что никакого мистера Беильса не знает и знать не хочет, и он вообще ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в "этот дурацкий теннис". Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячею смолою сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину: влюблена в англичанина и отчаянно несчастна. Так, понемногу поднимая голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды - затягиваться зимою в корсет и суконное платье. Две недели продолжалась ее самолюбивая влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете. А потом появилась около него высокая, худая девушка, одетая в белую фланель, - англичанка, его невеста, - и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни. На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все. Даша чувствовала теперь, как тот второй человек - точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая - и легкая и свежая, как прежде, - но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и Особенно другими стали глаза, замечательные глаза, посмотришь в них - голова закружится. В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую квартиру на Пантелеймоновской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы на суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в "Самарканд", к цыганам. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах двадцать три фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена. Даше некогда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу: утром лекции, в четыре - прогулка с сестрой, вечером - театры, концерты, ужины, люди - ни минуты побыть в тишине. В один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна-залилась яркой краской. Общий разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофе. К нему подсели знатоки литературы - два присяжных поверенных, но он, глядя на хозяйку длинным, странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства вообще никакого нет, а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке. "Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло, - и люди и искусство. А Россия - падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем пиру. А те, кто пишет стихи, все будут в аду". Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его розовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер. Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов, не слушая их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал: - Я плохо переношу общество людей. Позвольте мне уйти. Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у нее порозовела спина. После его ухода начался спор. Мужчины единодушно высказывались: "Все-таки есть некоторые границы, и нельзя уж так явно презирать наше общество". Критик Чирва подходил ко всем и повторял: "Господа, он был пьян в лоск". Дамы же решили: "Пьян ли был Бессонов или просто в своеобразном настроении, - все равно он волнующий человек, пусть это всем будет известно". На следующий день, за обедом, Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех "подлинных" людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом, живет, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. "Вот, Катя, я понимаю, от такого человека можно голову потерять". Николай Иванович возмутился: "Просто тебе, Даша, ударило в нос, что он знаменитость". Екатерина Дмитриевна промолчала. У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Куличек с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы: худа, как мощи, - одни кружевные юбки. Однажды Даша встретила Бессонова на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале села на стул, - неожиданно устали ноги, и было грустно. После этого Даша купила карточку Бессонова и поставила на стол. Его стихи - три белых томика - вначале произвели на нее впечатление отравы: несколько дней она ходила сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела. Но читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно этим болезненным ощущением, словно ей нашептывали - забыться, обессилеть, расточить, что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает. Из-за Бессонова она начала бывать на "Философских вечерах". Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой взволнованная и была рада, когда дома - гости. Самолюбие ее молчало. Сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрябина. Звуки, как ледяные шарики, медленно падают в грудь, в глубь темного озера без дна. Упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит, и там, в горячей темноте, гулко, тревожно ударяет сердце, точно скоро, скоро, сейчас, в это мгновение, должно произойти что-то невозможное. Даша опустила руки на колени и подняла голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен багровые, вспухшие, оскаленные, с выпученными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творения ограду райского сада. - Да, милостивая государыня, плохо наше дело, - сказала Даша. Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля, из японской коробочки вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла ее в пепельнице. - Николай Иванович, который час? - крикнула Даша так, что было слышно через четыре комнаты. В кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась Великий Могол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин подан. В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их ощипывать на скатерть. Могол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился наконец Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротничка. Волосы его были растрепаны, на бороде, отогнутой влево, висела пушинка с диванной подушки. Николай Иванович хмуро кивнул Даше, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть. Потом он облокотился о край стола, подпер большим волосатым кулаком щеку, уставился невидящими глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным: - Вчера ночью твоя сестра мне изменила. Родная сестра, Катя, сделала что-то страшное и непонятное, черного цвета. Вчера ночью ее голова лежала на подушке, отвернувшись от всего живого, родного, теплого, а тело было раздавлено, развернуто. Так, содрогаясь, чувствовала Даша то, что Николай Иванович назвал изменой. И ко всему Кати не было дома, точно ее и на свете больше не существует. В первую минуту Даша обмерла, в глазах потемнело. Не дыша, она ждала, что Николай Иванович либо зарыдает, либо закричит как-нибудь страшно. Но он ни слова не прибавил к своему сообщению и вертел в пальцах подставку для вилок. Взглянуть ему в лицо Даша не смела. Затем, после очень долгого молчания, он с грохотом отодвинул стул и ушел в кабинет. "Застрелится", - подумала Даша. Но и этого не случилось. С острой и мгновенной жалостью она вспомнила, какая у него волосатая большая рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения, и Даша только повторяла: "Что же делать? Что делать?" В голове звенело, - все, все, все было изуродовано и разбито. Из-за суконной занавески появилась Великий Могол с подносом, и Даша, взглянув на нее, вдруг поняла, что теперь никакого больше Великого Могола не будет. Слезы залили ей глаза, она крепко сжала зубы и выбежала в гостиную. Здесь все до мелочей было с любовью расставлено и развешано Катиными руками. Но Катина душа ушла из этой комнаты, и все в ней стало диким и нежилым. Даша села на диван. Понемногу ее взгляд остановился на недавно купленной картине. И в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено. Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей. Рот - сбоку, носа не было совсем, вместо него - треугольная дырка, голова - квадратная, и к ней приклеена тряпка - настоящая материя. Ноги, как поленья - на шарнирах. В руке цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное было угол, в котором она сидела раскорякой, - глухой и коричневый. Картина называлась "Любовь". Катя называла ее современной Венерой. "Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой. Она сама теперь такая же - с цветком, в углу". Даша легла лицом в подушку и, кусая ее, чтобы не кричать, заплакала. Некоторое время спустя в гостиной появился Николай Иванович. Расставив ноги, сердито зачиркал зажигательницей, подошел к роялю и стал тыкать в клавиши. Неожиданно вышел - "чижик". Даша похолодела. Николай Иванович хлопнул крышкой и сказал: - Этого надо было ожидать. |
|
poisk-ru.ru
Толстой Алексей Константинович. Хождение по мукам (книга 2)
- Кипяток есть, иди, Телегин, - сказал Сапожков, высовываясь с кривой трубкой в зубах в окошко. Керосиновая лампа, пристроенная на боковой стене, тускло освещала ободранное купе второго класса, висящее на крючках оружие, книги, разбросанные повсюду, военные карты. Сергей Сергеевич Сапожков, в грязной бязевой рубашке и подтяжках, обернулся к вошедшему Телегину: - Спирту хочешь? Иван Ильич сел на койку. В открытое окно вместе с ночной свежестью долетало бульканье перепела. Пробухали спотыкающиеся шаги красноармейца, вылезшего спросонок из теплушки за надобностью. Тихо тренькала балалайка. Где-то совсем близко загорланил петух, - был уже первый час ночи. - Это как так - петух? - спросил Сапожков, кончая возиться с чайником. Глаза его были красны, и румяные пятна проступали на худом лице... Он пошарил позади себя на койке, нашел пенсне и, надев его, стал глядеть на Телегина: - Каким образом в расположении полка мог оказаться живой петух? - Опять беженцы прибыли, я уже доложил комиссару. Двадцать подвод с бабами, ребятами... Черт знает что такое, - сказал Телегин, помешивая в кружке с чаем. - Откуда? - Из станицы Привольной. Их большой обоз шел, да казаки по пути побили. Все иногородние, беднота. У них в станице два казачьих офицера собрали отряд, ночью налетели, разогнали Совет, сколько-то там повесили. - Словом, обыкновенная история, - проговорил Сапожков, отчетливо произнося каждую букву. Кажется, он был сильно пьян и зазвал Телегина, чтобы отвести душу... У Ивана Ильича от усталости гудело все тело, но сидеть на мягком и прихлебывать из кружки было так приятно, что он не уходил, хотя мало чего могло выйти толкового из разговора с Сергеем Сергеевичем. - Где у тебя, Телегин, жена? - В Питере. - Странный человек. В мирной обстановке вышел бы из тебя преблагополучнейший мещанин. Добродетельная жена, двое добродетельных детей и граммофон... На кой черт ты пошел в Красную Армию? Тебя же убьют... - Я тебе уже объяснял... - Ты что же, в партию, быть может, ловчишься? - Нужно будет для дела, пойду и в партию. - А меня, - Сапожков прищурился за мутными стеклами пенсне, - вари в трех котлах, коммунистом не сделаешь... - Вот уж, если кто странный, так это ты странный, Сергей Сергеевич... - Ничего подобного. У меня мозги не диалектические... Дикая порода, один глаз всегда в лес смотрит. Гм! Так ты говоришь - я странный? (Он усмехнулся, видимо, с удовлетворением.) С октября месяца дерусь за Советскую власть. Гм! А ты Кропоткина читал? - Нет, не читал... - Оно и видно... Скучно, братишка... Буржуазный мир подл и скучен до адской изжоги... А победим мы, - коммунистический мир будет тоже скучен и сер, добродетелен и скучен... А Кропоткин хороший старик: поэзия, мечта, бесклассовое общество. Воспитаннейший старик: "Дайте людям анархическую свободу, разрушьте узлы мирового зла, то есть большие города, и бесклассовое человечество устроит сельский рай на земле, ибо основной двигатель в человеке - это любовь к ближнему..." Хи-хи... Сапожков, точно обижая кого-то, пронзительно засмеялся, пенсне запрыгало на костлявом его носу. Смеясь, полез под койку, вытащил жестяной бидончик со спиртом, налил в чашку, выпил и хрустко разгрыз кусочек сахару. - Наша трагедия, милый друг, в том, что мы, русская интеллигенция, выросли в безмятежном лоне крепостного права и революции испугались не то что до смерти, а прямо - до мозговой рвоты... Нельзя же так пугать нежных людей! А? Посиживали в тиши сельской беседки, думали под пенье птичек: "А хорошо бы, в самом деле, устроить так, чтобы все люди были счастливы..." Вот откуда мы пошли... На Западе интеллигенция - это мозговики, отбор буржуазии - выполняют железное задание: двигать науку, промышленность, индустрию, напускать на белый свет утешительные миражи идеализма... Там интеллигенция знает, зачем живет... А у нас, - ой, братишки!.. Кому служим? Какие наши задачи? С одной стороны, мы - плоть от плоти славянофилов, духовные их наследники. А славянофильство, знаешь, что такое? - расейский помещичий идеализм. С другой стороны, деньги нам платит отечественная буржуазия, на ее иждивении живем... А при всем том служим исключительно народу... Вот так чудаки: народу!.. Трагикомедия! Так плакали над горем народным, что слез не хватило. И когда у нас эти слезы отняли, - жить стало нечем... Мы мечтали - вот-вот дойдут наши мужички до Цареграда, влезут на кумпол, воздрузят православный крест над Святой Софией... Земной шар мечтали мужичкам подарить. А нас, энтузиастов, мечтателей, рыдальцев, - вилами... Неслыханный скандал! Испуг ужасный... И начинается, милый друг, саботаж... Интеллигенция попятилась, голову из хомута тащит: "Не хочу, попробуйте-ка - без меня обойдитесь..." Это когда Россия на краю чертовой бездны... Величайшая, непоправимая ошибка. А все барское воспитание, нежны очень: не в состоянии постигнуть революции без книжечки... В книжечках про революцию прописано так занимательно... А тут - народ бежит с германского фронта, топит офицеров, в клочки растерзывает главнокомандующего, жжет усадьбы, ловит купчих по железным дорогам, выковыривает у них из непотребных мест бриллиантовые сережки... Ну, нет, мы с таким народом не играем, в наших книжках про такой народ ничего не написано... Что тут делать? Океан слез пролить у себя в квартире, так мы же и плакать разучились, - вот горе!.. Вдребезги разбиты мечты, жить нечем... И мы - со страха и отвращения - головой под подушку, другие из нас - дерка за границу, а кто позлее - за оружие схватился. Получается скандал в благородном семействе... А народ, на семьдесят процентов неграмотный, не знает, что ему делать с его ненавистью, мечется, - в крови, в ужасе... "Продали, говорит, нас, пропили! Бей зеркала, ломай все под корень!" И в нашей интеллигенции нашлась одна только кучечка, коммунисты. Когда гибнет корабль, - что делают? Выкидывают все лишнее за борт... Коммунисты первым делом вышвырнули за борт старые бочки с российским идеализмом... Это все "старик" орудовал - российский, брат, человек... И народ сразу звериным чутьем почуял: это свои, не господа, эти рыдать не станут, у этих счет короткий... Вот почему, милый друг, я - с ними, хотя произращен в кропоткинской оранжерее, под стеклом, в мечтах... И нас не мало таких, - ого! Ты зубы-то не скаль, Телегин, ты вообще эмбрион, примитив жизнерадостный... И есть, видишь ли, такие, которым сознательно приходится вывернуть себя наизнанку, мясом наружу и, чувствуя каждое прикосновение, утвердить в себе одну волевую силу - ненависть... Драться без этого нельзя... Мы сделаем все, что в силах человеческих, поставим впереди цель, куда пойдет народ... Но ведь нас - кучка... А враги - повсюду... Ты слыхал про чехословаков? Придет комиссар, он тебе расскажет... Знаешь, чего боюсь? Боюсь, что у нас это самоубийство. Не верю, - месяц, два, полгода - больше не продержимся... Обречены, брат... Кончится все - генералом... И я тебе говорю, - виноваты во всем славянофилы... Когда началось освобождение крестьян, надо было кричать: "Беда, гибнем, нам нужно интенсивное сельское хозяйство, бешеное развитие промышленности, поголовное образование... Пусть приходит новый Пугачев, Стенька Разин, все равно, - вдребезги разбить крепостной костяк..." Вот какую мораль нужно было тогда бросить в массы, вот на чем воспитывать интеллигенцию... А мы изошли в потоках счастливых слез: "Боже мой, как необъятна, как самобытна Россия! И мужичок теперь свободен, как воздух, и помещичьи усадьбы с тургеневскими барышнями целы, и таинственная душа у народа нашего, - не то что на скаредном Западе..." И вот я теперь - топчу всякую мечту! Сапожков больше не мог говорить. Лицо его пылало. Но, видимо, самого главного он так и не сказал. Телегин, оглушенный водопадом его слов, сидел, открыв рот, с остывшей кружкой на коленях. В проходе вагона послышались шаги, как будто шел кто-то неимоверно тяжелый. Дверь купе приотворилась, и показался широкий, среднего роста человек с прилипшими к большому лбу темными волосами. Он молча сел под лампой, положив на колени большие руки. На обветренном грубом лице его редкие морщины казались шрамами, глаз не было видно в тени глазниц и нависших бровей. Это был начальник особого отдела полка, товарищ Гымза. - Опять шпирт достал? - спросил он негромко и серьезно. - Смотри, товарищ... - Какой такой спирт? Ну тебя к свиньям. Видишь, чай пьем, - сказал Сапожков. Гымза, не шевелясь, прогудел: - Так еще хуже, что врешь. Спиртищем из окна так и тянет, в теплушках шевеление началось, бойцы принюхиваются... Бузы у нас мало? Во-вторых, опять философию завел, дурацкую волынку, отсюда я заключаю, что ты пьяный. - Ну, пьяный, ну, расстреляй меня. - Расстрелять мне тебя недолго, это ты хорошо знаешь, и если я терплю, то принимая во внимание твои боевые качества... - Дай-ка табаку, - сказал Сапожков. Гымза важно достал из кармана тряпичный кисет. Затем, обращаясь к Телегину, продолжал медленным голосом, точно тер жернова: - Каждый раз одна и та же недопустимая картина: на прошлой неделе расстреляли троих подлецов, я сам допрашивал, - гниль, во всем сознались. И он сейчас же достает шпирту... Сегодня расстреляли заведомую сволочь, деникинского контрразведчика, он же сам его и поймал в камышах... Готово: нализался и тянет философию. Такая у него получается капуста, ну, вот я сейчас стоял под окном, слушал, - рвет, как от тухлятины... За эту философию другой, не я, давно бы его отправил в особый отдел, потому что он же разлагается... Он потом два дня болен, не может командовать полком... - А если ты расстрелял моего университетского товарища? - Сапожков прищурился, ноздри у него затрепетали. Гымза ничего не ответил, будто и не слышал этих слов. Телегин опустил голову... Сапожков говорил, придвигая потный нос к Гымзе: - Деникинский разведчик, ну да. А мы вместе с ним бегали на "Философские вечера". Черт его знает, зачем он полез в белую армию... Может быть, с отчаяния... Я сам его к тебе привел... Довольно с тебя, что я исполнил долг? Или тебе нужно, чтобы я камаринского плясал, когда его в овраг повели?.. Я сзади шел, я видел. - Он в упор глядел Гымзе в темные впадины глаз. - Могу я иметь человеческие чувства, или я уже все должен в себе сжечь? Гымза ответил не спеша: - Нет, не можешь иметь... Другой кто-нибудь, там уж не знаю... А ты все должен в себе сжечь... От такого гнезда, как в тебе, контрреволюция и начинается. Долго молчали. Воздух был тяжелый. За темным окном затихли все звуки. Гымза налил себе чаю, отломил большой кусок серого хлеба и медленно стал есть, как очень голодный человек. Потом глухим голосом начал рассказывать о чехословаках. Новости были тревожны. Чехословаки взбунтовались во всех эшелонах, растянутых от Пензы до Владивостока. Советские власти не успели опомниться, как железные дороги и города оказались под ударами чехов. Западные эшелоны очистили Пензу, подтянулись к Сызрани, взяли ее и оттуда двигаются на Самару. Они отлично дисциплинированы, хорошо вооружены и дерутся умело и отчаянно. Пока еще трудно сказать, что это - простой военный мятеж или ими руководят какие-то силы извне? Очевидно, - и то и другое. Во всяком случае, от Тихого океана до Волги вспыхнул, как пороховая нить, новый фронт, грозящий неимоверными бедствиями. К окну снаружи кто-то подошел. Гымза замолчал, нахмурился, обернулся. Голос позвал его: - Товарищ Гымза, выдь-ка... - Что тебе? Говори... - Секретное. Опустив брови на впадины глаз, Гымза оперся руками о койку, сидел так секунду, пересиленным движением поднялся и вышел, задев плечами за-оба косяка двери. На площадке он сел на ступени, наклонился. Из темноты к нему пододвинулась высокая фигура в кавалерийской шинели, звякнули шпоры. Человек этот торопливо зашептал ему у самого уха. Сапожков, как только Гымза вышел, стал шибко раскуривать трубку, яростно плюнул несколько раз в окно. Снял, швырнул пенсне и вдруг рассмеялся. - Вот в чем весь секрет: прямо ответить на поставленный вопрос... Есть бог? - нет. Можно человека убить? - можно. Какая ближайшая цель? - мировая революция... Тут, братишка, без интеллигентских эмоций... Он вдруг оборвал, вытянулся, слушая. Весь вагон вздрогнул, - это кулаком в стенку ударил Гымза. Свирепо-хриплый голос его прорычал: - Ну, уж если ты мне соврал, сукин сын... Сергей Сергеевич схватил Телегина за руку... - Слышишь? А знаешь - в чем дело? Ходят неприятные слухи о нашем главкоме Сорокине... Это товарищ из особого отдела вернулся оттуда. Понял - почему Гымза как черт мрачный... Звезды уже блекли перед рассветом. Опять закричал петух между возами. На спящий лагерь опускалась роса. Телегин пошел к себе в купе, стащил сапоги и со вздохом лег на койку, заскрипев пружинами. Телегину порой казалось, что короткое счастье жизни только приснилось ему где-то в зеленой степи под стук колес... Была жизнь - удачливая и тихая: студенчество, огромный, бездонный Питер, служба, беззаботная компания чудаков, живших у него в квартире на Васильевском острове. Тогда казалось - будущее ясно, как на ладони. Он и не задумывался о будущем: полет годов над крышей его дома был неспешен и неутомителен. Иван Ильич знал, что честно выполнит положенный ему труд и, - когда голова поседеет, - оглянется на пройденное и увидит, что прошел долгую-долгую дорогу, не сворачивая в опасные закоулки, как тысячи таких же Иванов Ильичей. В его простые будни повелительно вошла Даша, и грозным счастьем засияли ее серые глаза. Правда, у него всегда, очень тайно, нет-нет да и появлялось коротенькое сомнение: счастье назначалось не ему! Но он гнал это сомнение, он намеревался - вот только минуют дни войны - построить счастливый домик для Даши. И даже когда рухнули капитальные стены империи, и все смешалось, и зарычал от гнева и боли стопятидесятимиллионный народ, - Иван Ильич все еще думал, что буря пролетит и лужайка у Дашиного домика мирно засияет после дождя. И вот он - снова на койке, в военном эшелоне. Вчера - бой, завтра бой. Теперь ясно: к прошлому возврата нет. Стыдно ему было и вспоминать, как он год тому назад суетился, устраивая квартирку на Каменноостровском, - приобрел кровать красного дерева, чтобы Даша на ней родила мертвого младенца. Даша первая ударилась о дно водоворота. "Попрыгунчики", наскочившие на нее у Летнего сада, дыбом вставшие волосики у мертвого ребенка, голод, темнота, декреты, где каждое слово дышало гневом и ненавистью, - вот какой предстала ей революция. По ночам революция свистела над крышами, кидала снегом в замерзшие окна, - чужая! - кричала она Даше вьюжными голосами. Когда серенькая петербургская весна подула серым ветром, закапали крыши и с грохотом по дырявым трубам полетели вниз ледяные сосульки, Даша сказала Ивану Ильичу (он пришел домой оживленный, в пальто нараспашку, и особенно блестящими глазами поглядел на Дашу, - она вся поджалась, завернулась в платок до подбородка): - Как бы я хотела, Иван, - сказала она, - разбить себе голову, все забыть навсегда... Тогда бы еще могла быть тебе подругой... А так, ложиться в страшную постель, снова начинать проклятый день, - пойми же ты: не могу, не могу жить. Не думай, мне не нужно никакого изобилия, - ничего, ничего... Но только жить - полным дыханием... А крохи мне не нужны... Разлюбила... Прости... Сказала и отвернулась. Даша всегда была сурова в чувствах. Теперь она стала жестока. Иван Ильич спросил ее: - Быть может, нам лучше на некоторое время расстаться, Даша?.. И тогда в первый раз за всю зиму увидел, как радостно взлетели ее брови, странной надеждой блеснули глаза, жалобно задрожало ее худенькое лицо... - Мне кажется, - нам лучше расстаться, Иван. Тогда же он начал решительно хлопотать через Рублева о зачислении своем в Красную Армию и в конце марта уехал с эшелоном на юг. Даша провожала его на перроне Октябрьского вокзала и, - когда окно вагона поплыло, - горько заплакала, опустив вязаную шаль на лицо. Много сотен верст исколесил с тех пор Иван Ильич, но ни бой, ни усталость, ни лишения не заставили его забыть любимого заплаканного лица в толпе женщин у прокопченной стены вокзала. Даша прощалась с ним так, как прощаются навсегда. Он силился понять, - в чем же не угодил ей? В последнем счете, конечно, только в нем лежала причина ее охлаждения: ведь не у нее же одной родился мертвый ребенок. Не революция же вырвала у нее сердце... Сколько супружеских пар, - он перебирал в памяти, - теснее прижались друг к другу в это грозное, смутное время... В чем же была его вина? Иногда в нем подымалось возмущение: хорошо, найди, милая, поищи другого такого, кто будет с тобой так же тютькаться... Мир трещит по всем швам, а ей дороже всего свои переживания... Просто - распущенность, привычка питаться сдобными булочками; а не хочешь ли - черненького, с мякиной? Все это верно, все так, но отсюда был дальнейший вывод, что Иван Ильич сам отменно хорош и не любить его преступно. На этом каждый раз Иван Ильич спотыкался... "Действительно, ну-ка, что во мне такого особенного? Физически здоров - раз. Умен и интересен чрезвычайно? - нет, нормален, как десятый номер калош... Герой, большой человек? Увлекательный самец, что ли? Нет, нет... Серый, честный обыватель, каких миллионы... Случайно выхватил номер в лотерее: полюбила обольстительная девушка, в тысячу раз страстнее, умнее, выше меня, и так же непонятно разлюбила..." Так, оглядываясь на себя, он думал: не в том ли причина, что он не по росту этому времени, мал, - что и воюет-то он даже по-обывательски, будто служит в конторе? Ему не раз теперь приходилось встречать людей, страшных во зле и добре, непомерной тенью шагавших по кровавым побоищам... "А ты бы, Иван Ильич, хотя бы врага во всю силу возненавидел, смерти бы как следует испугался..." Ивана Ильича все это очень огорчало. Сам не замечая того, он становился одним из самых надежных, рассудительных и мужественных работников в полку. Ему поручали опасные операции, он выполнял их блестяще. Разговор с Сергеем Сергеевичем заставил его сильно задуматься. Развеселый, казалось, командир тоже корчился от муки... Да еще какой... А Мишка Соломин? А Чертогонов? А тысячи других, мимо которых проходишь бездумно? Все они в рост со временем, косматые, огромные, обезображенные муками. У иных и слов нет сказать, одна винтовка в руке, у иных - дикий разгул и раскаяние... Вот она - Россия, вот она - революция... - Товарищ ротный... Проснись... Телегин сел на койке. В вагонное окно глядел золотистый шар солнца, вися над краем цыплячье-желтой степи. Широколицый, рыжебородый солдат, красный как утреннее солнце, еще раз тряхнул Ивана Ильича. - Срочно, командир требует... В купе у Сапожкова все еще горела вонючая лампочка. Сидели - Гымза; комиссар полка Соколовский, черноволосый чахоточный человек с бессонно горящими черными глазами; двое батальонных; несколько человек ротных и представитель солдатского комитета, с независимым и даже обиженным выражением лица... Все курили. Сергей Сергеевич, уже во френче и при револьвере, держал в дрожащей руке телеграфную ленту. - "...таким образом, неожиданный захват станции противником отрезал наши части и поставил их под двойной удар, - хриповато читал Сапожков, когда Иван Ильич остановился у двери купе. - Во имя революции, во имя несчастного населения, которое ждет неминуемой смерти, казней и пыток, если мы бросим его на произвол белым бандам, - не теряйте минуты, шлите подкрепление". - Что же мы сделаем без распоряжения главкома? - крикнул Соколовский. Я еще раз пойду попытаюсь соединиться с ним по Юзу... - Иди попытайся, - зловеще сказал Гымза, (Все посмотрели на него.) - А я вот что скажу: ступай ты, возьми четырех бойцов, вот Телегина возьми, и дуйте вы в штаб на дрезине... И ты без распоряжения не возвращайся... Сапожков, пиши бумагу главкому Сорокину... На травянистом кургане стоял всадник и внимательно, приложив ладонь к глазам, глядел на полоску железнодорожного полотна, - по нему быстро приближалось облачко пыли. Когда облачко скрылось в выемке, всадник коснулся шенкелем и шпорой коня, худой рыжий жеребец вздернул злую морду, повернул и сошел с кургана, где по обоим склонам перед только что набросанными кучками земли лежали добровольцы - взвод офицеров. - Дрезина, - сказал фон Мекке, соскакивая с седла, и стеком стал похлопывать жеребца по передним коленям. - Ложись. - Норовистый конь подбирал ноги, прядал ушами, все же, переупрямленный, с глубоким вздохом опустился, касаясь мордой земли, и лег. Ребристый бок его вздулся и затих. Фон Мекке присел на корточки наверху кургана рядом с Рощиным. Дрезина в это время выскочила из выемки, теперь можно было различить шестерых людей в шинелях. - Так и есть, красные! - Фон Мекке повернул голову налево: - Отделение! - Повернул направо: - Готовьсь! По движущейся цели беглый огонь... Пли! Как накрахмаленный коленкор, разорвался воздух над курганом. Сквозь облако пыли было видно, что с дрезины упал человек, перевернулся несколько раз и покатился под откос, рвя руками траву. На уносящейся дрезине стреляли - трое из винтовок, двое из револьверов. Через минуту они должны были скрыться во второй выемке за будкой стрелочника. Фон Мекке, свистя в воздухе хлыстом, бесновался: - Уйдут, уйдут! Ворон вам стрелять! Стыдно! Рощин считался хорошим стрелком. Спокойно ведя мушкой на фут впереди дрезины, он выцеливал широкоплечего, рослого, бритого, видимо командира... "До чего похож на Телегина! - подумалось ему. - Да... это было бы ужасно..." Рощин выстрелил. У того слетела фуражка, и в это время дрезина нырнула во вторую выемку. Фон Мекке швырнул хлыст. - Дерьмо. Все отделение дерьмо. Не стрелки, господа офицеры, - дерьмо. И он с выпученными глазами непроспавшегося убийцы "ругался, покуда офицеры не поднялись с земли и, отряхивая коленки, не начали ворчать: - Вы бы, ротмистр, попридержали язык, тут есть и повыше вас чином. Вкладывая свежую пачку патронов, Рощин, почувствовал, что все еще дрожат руки. Отчего бы? Неужели от одной мысли, что этот человек был так похож на Ивана Телегина? Вздор, - он же в Петрограде... Комиссар Соколовский и Телегин с обвязанной головой поднялись на крыльцо кирпичного двухэтажного дома - станичного управления, стоявшего, по обычаю, напротив собора на немощеной площади, где в прежнее время бывали ярмарки. Сейчас лавки стояли заколоченными, окна выбиты, заборы растащены. В соборе помещался лазарет, на церковном дворе трепалось на веревках солдатское тряпье. В станичном управлении, где помещался штаб главкома Сорокина, в прихожей, забросанной окурками и бумажками, сбоку лестницы, ведущей наверх, сидел на венском стуле красноармеец, держа между ног винтовку. Закрыв глаза, он мурлыкал что-то степное. Это был широкоскулый парень с вихром, - знаком воинской наглости, - выпущенным из-под сдвинутой на затылок фуражки с красным околышком. Соколовский торопливо спросил: - Нам нужно к товарищу Сорокину... Куда пройти? Боец открыл глаза, мутноватые от сонной скуки. Нос у него был мягкий, несерьезный. Он посмотрел на Соколовского - на лицо, на одежду, на сапоги, потом так же - на Телегина. Комиссар нетерпеливо придвинулся к нему. - Я вас спрашиваю, товарищ... Нам по чрезвычайному делу - видеть главкома. - А с часовым не полагается разговаривать, - сказал вихрастый. - Фу-ты, черт. Это всегда в штабах такая сволочь - формалисты! крикнул Соколовский. - Я требую, чтобы вы ответили, товарищ: дома Сорокин или нет? - Ничего не известно... - А где начальник штаба? В канцелярии? - Ну, в канцелярии. Соколовский дернул Ивана Ильича за рукав, кинулся было на лестницу. Тогда часовой сделал падающее движение, но остался сидеть на стуле, только выпростал из-за ног винтовку: - Вы куда же идете? - То есть, как - куда? - к начштабу. - А пропуск имеется? У комиссара даже пена выступила на губах, когда он начал объяснять часовому, по какому делу они примчались на дрезине. Тот слушал, глядя на пулемет, стоявший перед входом, на декреты, приказы, извещения, которыми сплошь были залеплены стены в прихожей. Замотал головой. - Надо понимать, товарищ, а еще вы сознательный, - сказал он с тоской. - Есть пропуск - иди, нет пропуска - беспощадно буду стрелять. Приходилось подчиниться, хотя пропуска выдавали где-то на другом краю площади и присутствие, наверное, было заперто, комендант ушел, - скажут до завтра. Соколовский сразу даже как-то устал... В это время с площади в дверь кинулась, бухая сапогами, низенькая фигура в разодранной до пупа рубашке, крикнула: - Митька, мыло выдают... Часового как ветром сдунуло со стула. Он выскочил на крыльцо. Соколовский и Телегин беспрепятственно поднялись во второй этаж и, - после того как припухлоглазые хорошенькие гражданочки, в шелковых кофточках, посылали их то направо, то налево, - нашли наконец комнату начштаба. Там, с ногами на ободранном диване, лежал щегольски одетый военный, рассматривая ногти. С крайней вежливостью и вдумчиво-пролетарским обхождением, через каждое слово поминая "товарищ" (причем "товарищ" звучало у него совсем как "граф Соколовский", "князь Телегин"), он расспросило сути дела, извинился и вышел, поскрипывая желтыми, до колена шнурованными башмаками. За стеной начался шепот, хлопнула вдалеке дверь, и все затихло. Соколовский горящими глазами глядел на Телегина: - Ты понимаешь что-нибудь? Куда мы приехали? Ведь это что же, - белый штаб?
thelib.ru
Хождение по мукам 2
Хождение по мукам
Автор: Толстой А.Н.
* КНИГА ПЕРВАЯ. СЕСТРЫ *
О, Русская земля!..
("Слово о полку Игореве") 1
Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолустного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.
Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих - озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, - видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель - благонамеренный - прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее очарование.
Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору - худую бабу и простоволосую, - сильно испугался и затем кричал в кабаке: "Петербургу, мол, быть пусту", - за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно.
Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец - мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу.
И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночь на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург - лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой.
Как сон, прошли два столетия: Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью; бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни, с могучим сложением и черными от земли руками, и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь.
С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею петербургские призраки.
Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на рассвете, в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт - парад войскам перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. - Так жил город.
В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, не виданной еще роскоши столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.
В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно - роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был, как заразой, поражен дворец.
И во дворец, до императорского трона, дошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой.
Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале "Красные бубенцы", - и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить.
То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.
Девушки скрывали свою невинность, супруги - верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения - признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.
Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго - предсмертного гимна, - он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники - новое и непонятное лезло изо всех щелей. 2
- ...Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим: довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что - ее можно кушать? Или она способствует ращению волос! Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша? Но искусство, искусство, брр! Вам все еще нравится щекотать себя этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки! Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин, и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это - портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием...
В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Сергей Сергеевич Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступенькам большой дубовой кафедры.
Сбоку, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества "Философские вечера". Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик - историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин.
Общество "Философские вечера" в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен.
Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым стриженым черепом, с молодым скуластым и желтым лицом - Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и когда спрашивали: откуда и кто такой? - знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия его была не Акундин, приехал он из-за границы и выступал неспроста.
Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихший зал, усмехнулся тонкой полоской губ и начал говорить.
В это время в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка, в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались, на огоньках свечей.
Когда Акундин, стукнув по дубовой кафедре, воскликнул: "Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу", - девушка Вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель.
Акундин говорил:
- ...А вы все еще грезите туманными снами о царствии божием на земле. А он, несмотря на все ваши усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как валаамова ослица? Да, он проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадильниц, - народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верю. Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит. Здесь, в Петербурге, в этом великолепном зале, выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Боюсь, как бы эта забава не окончилась большой кровью...
Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса:
- Пускай говорит!
- Безобразие закрывать человеку рот!
- Это издевательство!
- Тише вы, там, сзади!
- Сами вы тише!
Акундин продолжал:
- ...Русский мужик - точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом, покуда не лишат его наконец когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса: ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов, и народ, о котором вы ничего не хотите знать... Мы здесь даже и не критикуем вас по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды - человеческой фантазии. Нет. Мы говорим: спасайтесь, покуда не поздно. Ибо ваши идеи и ваши сокровища будут без сожаления выброшены в мусорный ящик истории...
mirznanii.com
|
Давешний разговор с Сергеем Сергевичем и этот, как будто незначительный, случай с Анисьей очень взволновали Ивана Ильича. Первым делом он обрушился на самого себя и корил себя в эгоизме, байбачестве, невнимательности, серости... В такое время он, видите ли, разъел себе щеки, - даже Сергей Сергеевич это заметил... Так размышляя, Иван Ильич поймал себя еще на одной мысли, - ему вдруг стало жарко, и сердце на секунду будто окунулось в блаженство, - во всем этом подтягивании себя была и тайная мысль: вернуть Дашину былую влюбленность... Но он только фыркнул в налетевший из-за угла пыльный вихрь и отогнал эти совершенно уже неуместные мысли. На вокзале Иван Ильич получил приказ: немедленно погрузить орудия и выступить на артиллерийские позиции в район станции Воропоново. Приказ передал ему комендант - рослый детина с черными, как мартовская ночь, страшными глазами и пышной растительностью на щеках, вроде бакенбард. Иван Ильич несколько растерялся, начал объяснять, что он не артиллерист, а пехотинец, и не может взять на себя ответственность командовать батареей. Комендант сказал тихо и угрожающе: - Товарищ, вам понятен приказ? - Понятен. Но я объясняю же вам, товарищ... - В данный момент командование не нуждается в ваших объяснениях. Вы намерены выполнить приказ? "Ох, ты, черт, как тут разговаривают", - подумал Иван Ильич и невольно подбросил руку к козырьку: "Слушаюсь", - повернулся и пошел на пути... В этом городе были совсем не похожие ни на что порядки. На вокзалах, например, в иных городах, если нужно пройти куда-нибудь, - шагай через лежащих вповалку переодетых буржуев, дезертиров, мужиков и баб с мешками, откуда торчит петушиный хвост либо сопит поросенок. Здесь было пусто, даже подметено, хотя пыль, гонимая ветром через разбитые окна, густо устилала плакаты на стенах и давно покинутый буфетчиком прилавок. Здесь и разговаривали по-особенному - коротко, предостерегающе, точно положив палец на гашетку. Иван Ильич без лишней беготни и без крику быстро получил паровоз и наряд на погрузку. Позвонил в штаб о Сапожкове, и оттуда ответили: "Хорошо, берите его на свою ответственность..." Команда уже грузила орудия на две платформы под раскачивающимися фонарями. Иван Ильич стоял и всматривался в лица моряков. Вот Гагин, новгородец, с глубокими морщинами жесткого лица, с черными волосами, падающими из-под бескозырки - "Беспощадный" - на лоб до бровей; вот помор Байков, с широкой, будто подвешенной к маленькому лицу, забитой пылью бородой, с круглой головой, крепкой, как орех, - балагур и запивоха. Все девять товарищей ухватились за колеса пушки, вкатывая ее по круто поставленным доскам, а Байков то тут присядет, то с другой стороны взглянет: "Идет, идет, ребята, поднажми, давай..." Кто-то даже пхнул его коленкой: "Да берись ты сам, чудо морское..." Вот нижегородец, из керженских лесов, Латугин, с широким, дерзким лицом, ястребиным, должно быть, перебитым в драке, носом, среднего роста, силач, умница, опасный в ссоре и "ужасно лютый" до женского сословия... Вот - Задуйвитер... - Иван Ильич, - к нему подошел Шарыгин, - вы знаете, где это Воропоново? - Ничего я тут не знаю. - Да вот тут же, рядом, под самым Царицыном, - здесь и фронт... Белые, говорят, так и ломят... Артиллерии - сила, и танки, и самолеты... Да за войском еще тысяч сто мародеров-казаков едут на телегах. Шарыгин говорил тихо и возбужденно, синие глаза его блестели, улыбаясь, красивые губы дрожали. Иван Ильич нахмурился: - Вы что, в серьезных боях еще не бывали, Шарыгин? - У того вспыхнуло лицо, и краска перелилась на маленький нос, он так и остался красным. - Мой совет: поменьше слушайте разных разговоров... Все это паника... Вы позаботились о продовольствии отряда? - Есть! - Шарыгин подкинул ладонь к бескозырке, чего никогда обычно не делал. Лицо у него просветлело. Парень был хороший, чересчур впечатлительный, - но ничего, обломается. Иван Ильич пошел к товарному вагону, который прицепляли сзади платформ с пушками. По перрону бежал возбужденный Сапожков, с мешком и шашкой под мышкой... - Иван, устроил? - В порядке, Сергей Сергеевич... Грузись. Сапожков полез в товарный вагон. Там, в углу, на матросском барахлишке, уже сидела Анисья. Неподалеку от Воропонова - станции Западной железной дороги - еще до света орудия были выгружены и установлены в расположении одного из артиллерийских дивизионов. Здесь Телегин и его отряд узнали, что дела на фронте очень тяжелые. Под Воропоновом строилась линия укреплений, она шла полуподковой всего в каких-нибудь десяти верстах от Царицына, начинаясь на севере, у станции Гумрак, и кончаясь у Сарепты - на юге от Царицына. Эта дуга укреплений была последней защитой. В тылу за ней тянулась невысокая гряда холмов и дальше - покатая равнина до самого города. Отступать можно было только в Волгу, в ледяные волны. Вчерашний ветер разогнал тучи, свалил их за краем степи в непроницаемый мрак. Поднялось негреющее солнце. На плоской бурой равнине копошилось множество людей; одни кидали землю, другие вбивали колья, тянули колючую проволоку, укладывали мешки с песком. Со стороны Царицына подъезжали товарные составы, выгружались люди, разбредались, исчезали под землей. Другие вылезали из складок земли и устало брели к станции. Было похоже, что сюда призвано на работы - хочешь или не хочешь - все население города, способное держать лопату... Одна из таких партий, десятка в полтора разношерстных граждан обоего пола, подошла к расположению телегинской батареи; их привел маленький старенький военный инженер. - Граждане! - осипшим голосом крикнул он, высовывая седые усы из толсто замотанного верблюжьего шарфа. - Ваша задача проста: мне нужно поднять бруствер до четырнадцати вершков, берите землю отсюда и бросайте сюда, до отметки на колышке... Разойдитесь на шаг и - дружно за работу! Он ободрительно похлопал лиловыми от холода маленькими руками и бодро полез из выемки. Граждане проводили его взглядами, полными возмущения. Одна из женщин затрясла круглым лицом ему вдогонку: - Стыдитесь, Григорий Григорьевич, стыдитесь! Остальные продолжали стоять, держа лопаты так, будто именно эти лопаты и были гнусными орудиями пролетарской диктатуры. Только один - кадыкастый, большегубый юноша, которому было очень интересно попасть на боевые позиции, - принялся было ковырять землю, но на него сейчас же зашипели: - Стыдно, Петя, перестаньте сию же минуту... И все заговорили, обращаясь к человеку с желтым нервным лицом, стоявшему до этого закрыв глаза, слегка покачиваясь; форменное пальто на нем - ведомства народного просвещения - было демонстративно подпоясано веревкой. - Ну вы-то что же молчали, Степан Алексеевич? Мы выбрали вас... Мы ждем от вас... Он мученически поднял веки, щека его дернулась тиком: - Я буду говорить, господа, но буду говорить не с Григорием Григорьевичем. Мы все должны надеть траур по нашем Григории Григорьевиче... В это время с бруствера полетели комья, над выемкой появилась лошадиная морда, катающая в зубах удила, и сверху, с седла, перегнулся широкий, краснощекий, бородатый всадник в кубанской шапке. Прищуря глаза, он спросил насмешливо: - Ну что ж, граждане, не можете договориться - доработать, чи нет? Тогда нервный Степан Алексеевич, в пальто, подпоясанном веревкой, выступил несколько вперед и, задрав голову к всаднику, ответил ему с убедительной мягкостью, как говорят с детьми на уроках: - Товарищ, вы здесь старший начальник, насколько я понимаю... ("Эге", - всадник весело кивнул и рукой в перчатке похлопал коня, сторожившегося над обрывом.) Товарищ, от имени нашей группы, насильственно мобилизованной сегодня ночью на основании каких-то никому не ведомых списков, выражаем наш категорический протест... - Эге, - повторил, но уже с угрозой, бородатый всадник. - Да, мы протестуем! - Голос у Степана Алексеевича сорвался вверх. - Вы принуждаете людей, не приспособленных к физическому труду, рыть для вас окопы... Ведь это же худшие времена самоуправства!.. Вы совершаете насилие!.. Обе щеки у него задергались, он закрыл глаза, так как сказал слишком много, и замотал поднятым желтым лицом... Всадник глядел на него, прищурясь, - большие ноздри у него задрожали, рот сложился твердо, прямой, как разрез. Он слез с лошади, соскочил в выемку и, отряхнув одним ударом кавалерийские штаны, сказал: - Совершенно точно: мы вас принуждаем оборонять Царицын, если вы не желаете добровольно. Почему же это вас возмущает?.. А ну-ка, дайте лопату кто-нибудь. Он, не глядя, протянул большую руку в коричневой перчатке, и та же полная, круглолицая женщина торопливо подала ему лопату и уже все время не сводила с него изумленных глаз. - Зачем нам ссориться, это же чистое недоразумение. - Он вонзил лопату, подхватил землю и сильно кинул ее наверх, на бруствер. - Мы воюем, вы нам подсобляете, враг у нас один... Казачки же никого не пощадят, - с меня сдерут кожу, а вас перепорют поголовно, а которых порубят шашками... От него, как от печи, дышало здоровьем и силой. Кинув несколько лопат, он быстро оглянул стоящих: "А ну, - хлопнул по плечу кадыкастого юношу и другого - миловидного, глуповатого, с соломенными ресницами, - а ну, покажем, как надо работать". Они, смущенно улыбаясь, начали копать и кидать; за ними, пожав плечами, взялось за лопаты еще несколько человек. Круглолицая дама сказала: "Ну, позвольте уж и я", - и споткнулась о лопату. Бородатый командир сейчас же подхватил ее и, должно быть, сильно тиснул, - она раскраснелась и повеселела. Степан Алексеевич рисковал остаться в одиночестве. - Позвольте, позвольте, - сказал он высоким голосом, - но революция и - насилие, товарищи! Революция прежде всего отвергает всякое насилие. - Революция, - раскатисто ответил бородатый начальник, - революция осуществляет насилие над врагами трудящихся и сама осуществляется через это насилие... Понятно? - Позвольте, позвольте... Это антиморально... - Пролетариат только для того и совершает над вами насилие, чтобы освободить весь мир от насилия... - Позвольте, позвольте... - Нет, - твердо сказал начальник, - не позволю, вы начинаете озорничать, это саботаж, берите лопату... Товарищи, я, значит, могу надеяться, - к одиннадцати часам бруствер будет готов. В добрый час, до свиданья... Моряки, слушая издали этот разговор, помирали со смеху. Когда начальник артиллерии Десятой армии уехал, они пошли к интеллигенции - подсобить, чтобы у них не остыл энтузиазм. 4 Полк Петра Николаевича Мельшина вместе со всей дивизией отходил по левой стороне Дона, день и ночь отбиваясь от передовых частей второй колонны хорошо снаряженной и сформированной по-регулярному донской армии. У Мельшина в полку люди были измотаны боями и ночными переходами, без горячей еды, без сна и отдыха. Красновские казаки хорошо знали каждый овраг, каждую водомоину в этих степях и оттесняли противника в такие места, где было удобно его атаковать. На рассвете их стрелковые части начинали перестрелку, отвлекая внимание, а конные сотни пробирались оврагами и балочками во фланги и неожиданно накидывались с яростью, свистом, воем. Мельшин говорил бойцам: "Выдержка, товарищи, - это главное. Единодушие - это наша сила. Нам эти укусы не страшны. Мы знаем, за что сражаемся, смерть нам легка. А казак удал, да жаден, - ему добыча нужна, жизни он терять не хочет, и больше всего ему жаль коня". Рота Ивана Горы шла в арьергарде, прикрывая обоз, где на каждой телеге лежали раненые. Оставить их было нельзя и негде: станичники в плен не брали, - уцелевших после боя всех, на ком красная звезда, раздевали донага и рубили - и с верха и пешие; натешась, отъезжали, оглядываясь на страшно разрубленные трупы, вытирали клинки о конскую гриву. Ни в какие времена на Дону не слыхали такой бешеной ненависти, какая поднялась в богатых станицах Вешенской, Курмоярской, Есауловской, Потемкинской, Нижне-Чирской, Усть-Медвединской... Туда приезжали агитаторы из Новочеркасска, а в иные станицы - и сам атаман Краснов; колокольным звоном собирали "Круг спасения Дона" и, по старинному обычаю снимая шапки и кланяясь, звали казачество наточить шашки и вдеть ногу в стремя: "Настал твой час, вставай, вольный Дон... Грозной казацкой тучей двинемся на Царицын, уничтожим проклятое гнездо коммунистов, выметем с Дона красную заразу... Не хотят они, чтобы Дон жил богато и весело! Хотят они увести наши табуны и стада, земли наши отдать пришлым тульским да орловским мужикам, жен наших валять по своим постелям, а вас, - станичники, богатыри, соль земли Донской, - послать в шахты навечно... Не дайте ободрать храмы божий, постойте за алтарь нашей родины. Не пожалейте жизней. А уж атаман Всевеликого Войска Донского отдаст вам Царицын на три дня и три ночи". Ротный командир Иван Гора, длинный и сутуловатый, с лицом, почерневшим от бессонницы, привык за эти дни к маячившим на краю степи верхоконным казакам, узнал их повадки и не клал цепь без толку, велел бойцам идти не оборачиваясь. Впереди двигался обоз - тесно, ось к оси; позади шла цепь тяжелой развалкой - ободравшиеся, осунувшиеся, глядящие под ноги бойцы. Последним шагал Иван Гора, как опоенный. Еще полгода тому назад был он могучим человеком, но сказывалось ранение в голову, когда этим летом на продразверстке его рубили топором в сарае, сказывалась контузия, полученная в бою под Лихой. Он то бодрился, то на ходу начинал задремывать; перед мутнеющими глазами выплывало какое-нибудь приятное воспоминание, - люди в летних сумерках сидят на бревнах, над головами летает мышь... Или - зеленый подорожник, на нем ситцевая подушка, на ней смеющаяся Агриппина... Он гнал эти мечты, приостанавливался, поправляя на плече винтовку, разевал тяжелые веки, оглядывал идущих людей, телеги с мотающимися ранеными, ровную выгоревшую степь, плывущую ему в душу, - шаром по ней кати, ни деревца, ни телеграфного столба, плывет бурая, бесцветная, тоскливая, покачивается... Споткнувшись, встряхивал носом... Эх, хорошо сейчас идти за телегой, положив руку на грядку, - минутку подремать, передвигая ноги! - Вот - опять! Съезжаются на краю степи малюсенькие всадники, и оттуда - выстрелы, и пули посвистывают, как безвинные. - Прибодрись, товарищи, внимание! Эй, в обозе, не спать!.. В обозе ехала Агриппина, жена его, раненная в руку. Там же за одной из телег шли Даша и Кузьма Кузьмин. В темноте начались протяжные крики. Обоз остановился. Даша сейчас же привалилась к обочине телеги, положила голову на руку. Сквозь забытье она слышала, как подошел Иван Гора и негромко заговорил с Агриппиной, сидевшей в той же телеге: - Покурить бы, с ног валюсь. - Почему остановились? - До пяти часов - отдых. - Кто тебе сказал? - Проезжал вестовой. - Положи ко мне головушку, Ванюша, поспи. - Ну да, поспи. Он тебе поспит. Ребята наши - как где стоял, там и повалился... Ты чего не спишь, Гапа, рука болит? - Болит. Телега слабо заскрипела, - он привлек к себе Агриппину. Глубоко, как усталая лошадь, вздохнул. - Вестовой говорит: ох, и силы у него переправляется через Дон под Калачом да под Нижне-Чирской! За полками идут попы с хоругвями, везут бочки с водкой. Казаки летят в атаки пьяные, чистые мясники... - Поешь хлебца, Ванюша. Он медленно начал жевать. С трудом глотая, неясно проговорил: - Мы у самого Дона. Неподалеку здесь должен быть паром, казаки его на ту сторону угнали. Вот из-за этого остановка, пожалуй. Телегу опять качнуло, - Иван Гора отвалился и ушел, тяжело топая. Все затихло - и люди и лошади. Даша дышала носом в рукав... Все бы, все отдала за такую минуту суровой ласки с любимым человеком. Завистливое, ревнивое сердце! О чем раньше думала? Чего ждала? Любимый, дорогой был рядом, - просмотрела, потеряла навек... Зови теперь, кричи: Иван Ильич, Ваня, Ванюша... ...Дашу разбудил Кузьма Кузьмич. Она лежала, уткнувшись под телегой. Слышались выстрелы. Занималась зеленая заря. Было так холодно, что Даша, стуча зубами, задышала на пальцы. - Дарья Дмитриевна, берите сумку скорее, идем, раненые есть... Выстрелы раздавались внизу по реке, гулкие в утренней тишине. Даша с трудом поднялась, она совсем отупела от короткого сна на холодной земле. Кузьма Кузьмич поправил на ней санитарную повязку, побежал вперед, вернулся: - Переступайте, душенька, бодрее... Наши тут, неподалеку... Не слышите - где-то стонет? Нет? Забегая, он останавливался, вытягивая шею, всматривался. Даша не обращала внимания на его суетливость, только было противно, что он так трусит... - Душенька, пригибайтесь, слышите - пульки посвистывают? Все это он выдумывал, - не стонали раненые, и пули не свистели. Свет зари разгорался. Впереди виднелась белая пелена, будто река вышла из берегов. Это над рекой и по голым прибрежным тальникам лежал густой, низкий осенний туман. В нем, как в молоке, по пояс стоял. Иван Гора. Подальше - боец в высокой шапке и - другой и третий, видные по пояс. Они глядели на правый - высокий - берег Дона, куда не доходил туман. Там, за черными зарослями, поднималось в безветрии множество дымков. Увидел их и Кузьма Кузьмич, - будто захлебнувшись от восторга, раскрыл глаза: - Смотрите, смотрите, Дарья Дмитриевна, что делается! Это же грабить приехали за армией - сто тысяч телег... Это же Батый, кочевники, половцы!.. Видите, видите, - кони распряженные, телеги... Видите - у костров лежат - бородатые, с ножами за голенищами... Да глядите же, Дарья Дмитриевна, один раз в жизни такое приснится... Даша не видела ни телег, ни коней, ни станичников, лежащих у костров... Все же ей стало жутко... Иван Гора обернулся и рукой показал им, чтобы присели в туман. Кузьма Кузьмич, будто впиваясь в страницу какой-то удивительной повести, забормотал: - Это показать бы да нашей интеллигенции. А? Это - сон нерассказанный... Вот тебе, конституции захотели! Русским народом управлять захотели... Ай, ай, ай... Побасенки про него складывали - и терпеливенький-то, и ленивенький-то, и богоносный-то... Ай, ай, ай... А он вон какой... По пояс в тумане стоит, грозен и умен, всю судьбу свою понимает, очи вперил в половецкие полчища... Тут такие силища подпоясались, натянули рукавицы, - ни в одной истории еще не написано... Внезапно оборвалась вдалеке ружейная и пулеметная стрельба. Кузьма Кузьмич споткнулся на полуслове. Стоящий впереди Иван Гора повернул голову. Ниже по реке раздались два глухих взрыва, и сейчас же там начало разливаться в тумане мутное пунцовое зарево. Донеслись отдаленные крики, и - снова зачастили выстрелы. - Ей-богу, паром подожгли наши на том берегу, - Кузьма Кузьмич высовывал голову из тумана, - ох, резня там сейчас, ох, резня! Иван Гора и цепь его бойцов, нагнувшись, побежали к берегу и скрылись в зарослях. Заря широко полыхала над степью. Туман, редея, шевелился и рвался между голыми ветками тальника. Там, под берегом, под покровом тумана, на реке внезапно раздались такие страшные крики, что Даша прижала кулаки к ушам, Кузьма Кузьмич лег ничком. Удары, лязг, выстрелы, вопли, плеск воды, разрывы ручных гранат. Затем из зарослей появился Иван Гора. Он шел, заглатывая воздух, тяжело отдуваясь. На голове его не было фуражки, зато в руке он нес два казацких картуза с красными околышками. Подойдя к Даше, сказал: - Пришлю носилки, и вы бегите к воде, - перевязать надо двоих товарищей... Он взглянул на картузы, один из них бросил, другой порывисто надвинул на лоб. - Обойти нас хотели, сволочи, на лодках... Идите, не бойтесь, там всех кончили... 5 Шумели берега Дона между станицами Нижне-Чирской и Калачом, - по трем плавучим мостам, на паромах и лодках переправлялись конные и пешие полки Всевеликого Войска Донского. В походном строю шли конные сотни в новых мундирах, в заломленных бескозырках с выпущенными, по обычаю, на лоб чубиками, воспетыми в песнях. Пестрели флажки на пиках, брызгала меж мостовыми досками вода из-под копыт молодых коней, боязливо косившихся на серый Дон. Плыли поперек реки длинные лодки, нагруженные пехотинцами - безбородой молодежью; разинув рты, озирались они на невиданное скопление казаков, коней, телег; выпрыгивали из лодок в воду, карабкались на обрывистый берег, строились - ружье к ноге, - срывали шапки; дьяконы со взвевающимися космами звероподобно ревели, звякая кадилами, протопопы, подобные золотым колоколам, в ризах с пышными розами, благословляли воинство. На кургане - впереди полковников и конвойцев - стоял под своим знаменем командующий, генерал Мамонтов, наблюдая за переправой. Он был хорошо виден всем, как влитый, в походном казачьем черном бешмете, на серебристом коне, царапающем копытом курган. Войска проходили с песнями, гремели литавры, в воздух подлетали конские хвосты бунчуков. На востоке бурой степи, заволоченной пылью идущих войск, перекатывался пушечный гром. Командующий, подняв руку с висящей нагайкой, заслонился от солнца, глядя, как плыли аэропланы со слегка откинутыми назад крыльями, он сосчитал их и следил, покуда они, снижаясь, не ушли за горизонт. Мимо кургана прошли только что сгруженные с парохода тяжелые гаубицы, их щиты и стволы были размалеваны изломанными линиями, упряжки разномастных, мохноногих, низких, косматых лошадей проскакали тяжелым галопом, бородатые ездовые, лихачествуя, били их плетями. Еще не осела пыль - пошли танки, огромные, из клепаных листов, с задранными носами гусеничных передач. Он сосчитал их - десять стальных чудовищ, чтобы давить красную сволочь на улицах Царицына. Он рысью съехал с кургана и поскакал вдоль берега, знаменосец - за ним, на полкорпуса позади, осеняя его треплющимся черно-сизым знаменем. Подходили и грузились в лодки новые войска, плыли паромы с возами сена и всякого войскового добра. Близ переправ стояли телеги, брички, большие фуры, на которых возят снопы с поля. Около них спокойно постаивали в ожидании переправы, похаживали почтенные станичники, иные закусывали, сидя у костров. Это были посланные станицами к своим частям - сотням и полкам - торговые казаки. Они вели хозяйство, брали добычу - будь то деньги, скот, хлеб, фураж или всякие нужные вещи - одежда, одеяла, тюфяки-перины, зеркала, оружие; из этой добычи снабжали свои сотни фуражом и довольствием, если надобно - одеждой и оружием, а все остальное переписывали, укладывали на воза и с подростками или с бабами отправляли в станицы. Мамонтов проехал хутор Рычков, где половина дворов была сожжена и гумна чернели от пепла, и свернул вдоль железнодорожного полотна, дожидаясь, когда с правой стороны Дона подойдет бронепоезд. Донская армия, численностью в двенадцать конных и восемь пехотных дивизий, наступала пятью колоннами. Все пять колонн двигались стремительным маршем к последней черте оборонных укреплений Царицына. Десятая красная армия, потерявшая связь с северными и южными частями, отступала, уплотняясь на все более сужающемся фронте. Ее пять дивизий малого состава расходовали последние пули и последние силы. Высший военный совет республики, который должен был оказать в эти дни решительную помощь Десятой армии, был парализован тайным, хорошо замаскированным предательством, - оно выражалось в крайней медлительности всех движений и в том, что царицынские дела истолковывались как второстепенные, ничего не решающие, а настроение царицынского военсовета - паническим. Царицыну было предоставлено отбиваться от казаков своими силами. В эти дни военсовет Десятой отдал два приказа: первый - угнать из Царицына на север все пароходы, баржи, лодки и паромы, дабы не было и мысли об отступлении войск на левый берег Волги, и - второй - по армии: с занимаемых позиций не отступать до распоряжения; отступившие подлежат расстрелу. На батарее Телегина первая половина дня прошла спокойно. Грохотало где-то за горизонтом, но равнина была безлюдна. Моряки копали убежище. Анисья, никого не спрашивая, ушла на станцию и часа через три вернулась с двумя мешками, - едва донесла: хлебушко и арбузы. Постелила опростанные мешки на землю между пушками, нарезала хлеб, разрезала каждый арбуз на четыре части: "Ешьте!.." И сама стала в стороне, скромная, удовлетворенная, глядя, как голодные моряки уписывают арбузы. Моряки, не вытирая щек, ели, похваливали: - Ай да Анисья! - Дорогого стоит такую найти. - Моря обегаешь... Степенный и ревнивый ко всякому разговору Шарыгин сказал: - С инициативой она, вот что дорого. - Моряки, подняв головы от арбузных ломтей, враз загрохотали. Он нахмурился, встал, взял лопату. - Предлагаю, товарищи, вырыть для Анисьи отдельное убежище, таких товарищей надо беречь, товарищи... Моряки отсмеялись и вырыли позади батареи в овражке небольшой окопчик для Анисьи, - отсиживаться на случай обстрела. Делать больше было нечего. Сотня снарядов, выгруженных с парохода, рядками уложена около пушек. Винтовки протерты. Сапожков наладил связь с командным пунктом дивизиона. Моряки разлеглись в котловане, на солнцепеке. Теперь жалуй к нам, генерал Мамонтов. Иван Ильич сидел на лафете, вертел, поламывая, сухой стебель. Иван Ильич не размахивался на какие-нибудь большие рассуждения, ему дорог был этот маленький мирок людей, сошедшихся из разных концов земли, не похожих друг на друга и так дружно соединивших судьбы свои. Вон - Сергей Сергеевич, уж, кажется, никаким клеем его ни с кем не склеишь, вечно ощетинен всеми мыслями, - сразу всем стал нужен; сразу обжился, устроился у колеса и посапывает. Шарыгин, - честолюбец, парень небольшого ума, но упорный, с ясной душой без светотени, - тихо спит на боку, подсунув кулак под щеку. Задуйвитер вельможно раскинулся на песке, подставив солнцу грубо сделанное, красивое лицо: мужик хитрый, смелый, расчетливый - жив будет, вернется домой хозяином. Другой богатырь, из керженских лесов, Латугин, могуче всхрапывает, прикрыв лицо бескозыркой, - этот много сложнее, без хитрости, - она ему ни к чему, - он еще сам не знает, в какое небо карабкается с наганом и ручной гранатой... Двенадцать человек вверили Ивану Ильичу свою жизнь. Военсовет поручил ему батарею в такой ответственный момент... Правда, он кое-что смыслил в математике, но все же следовало твердо заявить, что батареей он командовать не должен... - Послушай, Гагин, кто-нибудь из вас умеет вычислять эти самые углы прицела? Дальномера-то у нас нет... Гагин, стоявший на приступке, откуда через бруствер глядел в степь, обернулся. - Дальномер? - мрачно переспросил он и уставился на Телегина черным взором. - А зачем тебе дальномер? Угол, прицел нам по телефону скажут с командного пункта. - Ага, правильно... - Углы, прицелы, дистанционные трубки - это мы все умеем, не в этом дело, товарищ Телегин... Бой будет страшный, без дальномеров, на злость... Кишки на руку наматывай, а бей до последнего снаряда, вот о чем думай... Иди-ка сюда, я тебе покажу. Телегин взобрался к нему на приступку. Артиллерийская канонада усилилась, как будто приблизилась, горизонт на западе и на юге заволокло дымной мглой. Следя за пальцем Гагина, он различал на равнине ползущие с севера кучки людей и вереницы телег. - Наши бегут, - сказал Гагин и кивнул на огромный дым, поднимающийся грибом на юге, в стороне Сарепты. - Я давно гляжу: по этому курсу тысячи, тысячи пробежали... Разрывы видишь? А давеча их не было. Из тяжелых бьет. Наутро жди сюда генерала. Иван Ильич еще раз осмотрел хозяйство батареи. Пересчитал снаряды, патроны, - их приходилось всего по две обоймы на винтовку. Его особенно тревожило, что батарея была оголена. Саженях в двухстах отсюда виднелись свежевырытые окопчики, но в них не замечалось никакого движения, - части красных войск проходили гораздо дальше. Он присел около Сапожкова, - лицо Сергея Сергеевича было сморщенное, будто сон для него тоже не был легок. - Сергей Сергеевич, извини, я тебя потревожу... Свяжи меня с командиром дивизиона... Сапожков открыл мутные глаза: - Зачем? Указания даны - не стрелять. Когда надо, скажут... Чего ты волнуешься? - Он подтянулся к колесу, зевнул, но явно притворно. - Лег бы, выспался - самое знаменитое. Иван Ильич вернулся на приступку и долго стоял неподвижно, положив руки на бруствер. Огромное темно-оранжевое солнце садилось во мглу, поднятую где-то за горизонтом копытами бесчисленных казачьих полков. Ночная тень надвигалась на равнину, - больше уже нельзя было различить на ней движения войск. Ниже ясной вечерней звезды небо в закате стало прикидываться фантастической страной у зеленого моря, там строились китайские башни, одна отделилась и поплыла, превратилась в коня с двумя головами, стала женщиной и заломила руки... Казалось: только вылезти из котлована - и, перебирая ногами, как бывает во сне, долетишь до этой дивной страны. Для чего же нибудь она показывается, что-нибудь она значит для тебя в час смертного боя?.. - Эх, черная галка, сизая полянка, - сказал Сергей Сергеевич, положив ему руку на спину, - это же чистый идеализм, Ванька, пялить глаза на картинки... Махорочки свернем? В госпитале украл пачку, берегу - покурить перед смертью... [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]/ Полные произведения / Толстой А.Н. / Хождение по мукам | Смотрите также по произведению "Хождение по мукам": Мы напишем отличное сочинение по Вашему заказу всего за 24 часа. Уникальное сочинение в единственном экземпляре. 100% гарантии от повторения! |
www.litra.ru
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Пример видео 3 Пример видео 3 |  Пример видео 2 Пример видео 2 |  Пример видео 6 Пример видео 6 |  Пример видео 1 Пример видео 1 |  Пример видео 5 Пример видео 5 |  Пример видео 4 Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»




 / Полные произведения / Толстой А.Н. / Хождение по мукам
/ Полные произведения / Толстой А.Н. / Хождение по мукам



.jpg)