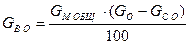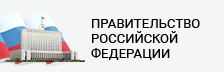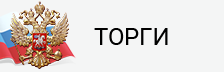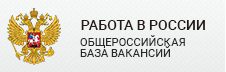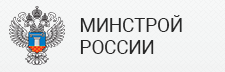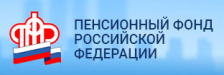К 200-ЛЕТИЮ И. А. ГОНЧАРОВА. Иван ВАСИЛЬЦОВ. ПИСЬМА ОБЛОМОВА. Эссе. Никогда не надо предаваться отчаянию перемелется мука будет
Цитаты из романа "Обломов" Гончарова: известные высказывания, афоризмы |LITERATURUS: Мир русской литературы

Роман "Обломов" Гончарова - это выдающееся произведение русской литературы XIX века.
В этой статье представлены цитаты из романа "Обломов" Гончарова (известные высказывания, афоризмы), принадлежащие различным персонажам и автору, а также пословицы и поговорки из романа.
Цитаты из романа "Обломов" Гончарова (известные высказывания, афоризмы)
"...Надо работать, коли деньги берешь..." (Судьбинский) "...Никогда не надо предаваться отчаянию: перемелется – мука будет..." (Алексеев) "...Что за ребенок, если ни разу носу себе или другому не разбил? (отец Штольца)"...Жизнь есть жизнь, долг, обязанность, а обязанность бывает тяжела..." (Ольга Ильинская)
"...обновлять каждый день запас вашей нежности! Вот где разница между влюбленным и любящим..." (Ольга Ильинская)
"...У сердца, когда оно любит, есть свой ум, – возразила она, – оно знает, чего хочет, и знает наперед, что будет..." (Ольга Ильинская)
"...Да, на словах вы казните себя, бросаетесь в пропасть, отдаете полжизни, а там придет сомнение, бессонная ночь: как вы становитесь нежны к себе..." (Ольга Ильинская)
"...Мы не выходим замуж, нас выдают или берут..." (Ольга Ильинская)
"...Зачем мне твоя жизнь? Ты сделай, что надо. Это уловка лукавых людей предлагать жертвы, которых не нужно или нельзя приносить, чтоб не приносить нужных..." (Ольга Ильинская)
"...Ах, какое счастье… выздоравливать..." (Ольга Ильинская о несчастной любви)
"...Короткое, ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому ни другому даром: много надо и с той и с другой стороны жизненного опыта, логики и сердечной теплоты, чтоб, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками..." (автор)
"...И поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности любит верить соблазнительным сказаниям старины, и долго, может быть, еще не отрешиться ему от этой веры..." (автор)
"...немецкая масса предъявляет везде свои тысячелетием выработанные бюргерские права, как корова носит свои рога, не умея кстати их спрятать..." (автор)
"...Он распускал зонтик, пока шел дождь, то есть страдал, пока длилась скорбь..." (автор о Штольце)
"...Хитрость близорука: хорошо видит только под носом, а не вдаль, и оттого часто сама попадается в ту же ловушку, которую расставила другим..." (автор) "...хитрость – как мышь: обежит вокруг, прячется..." (автор)"...все истории о любви очень сходны между собой..." (автор)
"...собственная совесть была гораздо строже выговора..." (автор)
"...она уже любила, и скинуть с себя любовь по произволу, как платье, нельзя..." (автор)
"... в любви заслуга приобретается так слепо, безотчетно, и в этой то слепоте и безотчетности и лежит счастье..." (автор)"...Нельзя играть в жизнь, как в куклы! [...] Не шути с ней – расплатишься!.." (автор)
"...Он был бодр телом, потому что был бодр умом..." (автор о Штольце)
"...А чтение, а ученье – вечное питание мысли, ее бесконечное развитие!.." (автор)"...Странен человек! Чем счастье ее было полнее, тем она становилась задумчивее и даже… боязливее..." (автор об Ольге)
"...одни быстро проходят любовь как азбуку супружества или как форму вежливости, точно отдали поклон, входя в общество, и – скорей за дело!
Они нетерпеливо сбывают с плеч весну жизни; многие даже косятся потом весь век на жен своих, как будто досадуя за то, что когда то имели глупость любить их..." (автор) "...Больше всего он боялся воображения, этого двуличного спутника, с дружеским на одной и вражеским на другой стороне лицом, друга – чем меньше веришь ему, и врага – когда уснешь доверчиво под его сладкий шепот..." (автор о Штольце) "...Хитрят и пробавляются хитростью только более или менее ограниченные женщины. Они за недостатком прямого ума двигают пружинами ежедневной мелкой жизни посредством хитрости, плетут, как кружево, свою домашнюю политику, не замечая, как вокруг их располагаются главные линии жизни, куда они направятся и где сойдутся..." (автор)"...Хотя любовь и называют чувством капризным, безотчетным, рождающимся, как болезнь, однако ж и она, как все, имеет свои законы и причины. А если до сих пор эти законы исследованы мало, так это потому, что человеку, пораженному любовью, не до того, чтоб ученым оком следить, как вкрадывается в душу впечатление, как оковывает будто сном чувства, как сначала ослепнут глаза, с какого момента пульс, а за ним сердце начинает биться сильнее..." (автор)
"...большая часть вступает в брак, как берут имение, наслаждаются его существенными выгодами: жена вносит лучший порядок в дом – она хозяйка, мать, наставница детей; а на любовь смотрят, как практический хозяин смотрит на местоположение имения, то есть сразу привыкает и потом не замечает его никогда...""...На человека иногда нисходят редкие и краткие задумчивые мгновения, когда ему кажется, что он переживает в другой раз когда то и где то прожитой момент. Во сне ли он видел происходящее перед ним явление, жил ли когда нибудь прежде, да забыл, но он видит: те же лица сидят около него, какие сидели тогда, те же слова были произнесены уже однажды..." (автор о явлении "дежавю")
"...различить нарумяненную ложь от бледной истины..." (автор)
Пословицы и поговорки из романа "Обломов"
"...для дураков закон не писан..." (Анисья)"...она из огня попала в полымя..." (автор)
"...Да куда я пойду семь верст киселя есть?.." (Захар) (*за семь вёрст киселя есть - то есть далеко и попусту куда-то ездить)
"...Пострел везде поспел!.." (Тарантьев)
Это были цитаты из романа "Обломов" Гончарова (известные высказывания, афоризмы), а также пословицы и поговорки из произведения.
www.literaturus.ru
касаясь друг друга, по отвесной линии, от верхнего
касаясь друг друга, по отвесной линии, от верхнего угла к нижнему. Шествие иногда нарушалось бледночернильным большим пятном.– «Милостивый государь, – начал Обломов, – ваше благородие, отец наш и кормилец, Илья Ильич…»
Тут Обломов пропустил несколько приветствий и пожеланий здоровья и продолжал с середины:
– «Доношу твоей барской милости, что у тебя в вотчине, кормилец наш, все благополучно. Пятую неделю нет дождей: знать, прогневали господа бога, что нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят: яровое так и палит, словно полымем. Озимь ино место червь сгубил, ино место ранние морозы сгубили; перепахали было на яровое, да не знамо, уродится ли что? Авось, милосердый господь помилует твою барскую милость, а о себе не заботимся: пусть издохнем. А под Иванов день еще три мужика ушли: Лаптев, Балочов, да особо ушел Васька, кузнецов сын. Я баб погнал по мужей: бабы те не воротились, а проживают, слышно, в Челках, а в Челки поехал кум мой из Верхлева; управляющий послал его туда: соху, слышь, заморскую привезли, а управляющий послал кума в Челки оную соху посмотреть. Я наказывал куму о беглых мужиках; исправнику кланялся, сказал он: „Подай бумагу, и тогда всякое средствие будет исполнено, водворить крестьян ко дворам на место жительства“, и, опричь того, ничего не сказал, а я пал в ноги ему и слезно умолял; он закричал благим матом: „Пошел, пошел! тебе сказано, что будет исполнено – подай бумагу!“ А бумаги я не подавал. А нанять здесь некого: все на Волгу, на работу на барки ушли – такой нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш, батюшка, Илья Ильич! Холста нашего сей год на ярмарке не будет: сушильню и белильню запер на замок и Сычуга приставил денно и ночно смотреть: он тверезый мужик; да чтобы не стянул чего господского, я смотрю за ним денно и ночно. Другие больно пьют и просятся на оброк. В недоимках недобор: нынешний год пошлем доходцу, будет, батюшка ты наш, благодетель, тысящи яко две помене против того года, что прошел, только бы засуха не разорила вконец, а то вышлем, о чем твоей милости и предлагаем».
Затем следовали изъявления преданности и подпись: «Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин собственной рукой руку приложил». За неумением грамоты поставлен был крест. «А писал со слов оного старосты шурин его. Демка Кривой».
Обломов взглянул на конец письма.
– Месяца и года нет, – сказал он, – должно быть, письмо валялось у старосты с прошлого года; тут и Иванов день и засуха! Когда опомнился!
Он задумался.
– А? – продолжал он. – Каково вам покажется: предлагает «тысящи яко две помене»! Сколько же это останется? Сколько, бишь, я прошлый год получил? – спросил он, глядя на Алексеева. – Я не говорил вам тогда?
Алексеев обратил глаза к потолку и задумался.
– Надо Штольца спросить, как приедет, – продолжал Обломов, – кажется, тысяч семь, восемь… худо не записывать! Так он теперь сажает меня на шесть! Ведь я с голоду умру! Чем тут жить?
– Что ж так тревожиться, Илья Ильич? – сказал Алексеев. – Никогда не надо предаваться отчаянию: перемелется – мука будет.
– Да вы слышите, что он пишет? Чем бы денег прислать, утешить как-нибудь, а он, как на смех, только неприятности делает мне! И ведь всякий год! Вот я теперь сам не свой! «Тысящи яко две помене»!
– Да, большой убыток, – сказал Алексеев, – две тысячи – не шутка! Вот Алексей Логиныч, говорят, тоже получит нынешний год только двенадцать тысяч вместо семнадцати…
– Так двенадцать, а не шесть, – перебил Обломов. – Совсем расстроил меня
rulibrary.ru
Образ и характеристика Алексеева в романе "Обломов": описание, портрет в цитатах, отношение Обломова к Алексееву |LITERATURUS: Мир русской литературы
 |
| Титульный лист."Обломов". Л., 1967. Художник Л. Красовский |
В этой статье представлен цитатный образ и характеристика Алексеева в романе "Обломов": описание внешности и характера, портрет в цитатах, отношение Обломова к Алексееву и т.д.Смотрите: Все материалы по роману "Обломов"
Краткая характеристика Алексеева в романе "Обломов"
Господин Иван Алексеевич Алексеев - это человек неопределенного возраста и неопределенной внешности. Это незаметный и посредственный человек, ничем не примечательный как внешне, так и внутренне.
Алексеев - бедный человек. Он служит где-то мелким чиновником и получает скромное жалованье. Алексеев приходит к Обломову, чтобы вкусно поесть и попить и провести время в тишине и спокойствии.Господин Алексеев - незлой, кроткий и тихий человек. Он все время подстраивается под окружающих. У него нет своего мнения. Алексеев ничем не интересуетсяи ни к чему не стремится.
Алексеев настолько непримечательный человек, что окружающие не могут запомнить его фамилию: его зовут Афанасьевым, Васильевым, Андреевым. Также знакомые путают и имя несчастного, называя его то Иваном Васильевичем, то Иваном Михайловичем и т.д.Образ и характеристика Алексеева в романе "Обломов": описание, портрет в цитатах
Имя и фамилия героя - Иван Алексеевич Алексеев: "...меня зовут Иваном Алексеичем..." "...Да я не Афанасьев, а Алексеев..."О внешности Алексеева известно следующее:
"...человек неопределенных лет, с неопределенной физиономией, в такой поре, когда трудно бывает угадать лета; не красив и не дурен, не высок и не низок ростом, не блондин и не брюнет..."Окружающие все время путают имя и фамилию Алексеева:"...Его многие называли Иваном Иванычем, другие – Иваном Васильичем, третьи – Иваном Михайлычем. Фамилию его называли тоже различно: одни говорили, что он Иванов, другие звали Васильевым или Андреевым, третьи думали, что он Алексеев..." "...Весь этот Алексеев, Васильев, Андреев, или как хотите..."
Алексеев - ничем не примечательный человек, без резких, отличительных черт:"...Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни хорошей..." "...Присутствие его ничего не придаст обществу, так же как отсутствие ничего не отнимет от него..." "...А у этого ни кожи, ни рожи, ни ведения!..""...это неопределенное лицо..."
Алексеев - неостроумный, неоригинальный человек: "...Остроумия, оригинальности и других особенностей, как особых примет на теле, в его уме нет..."Алексеев - незаметный человек:"...Едва ли кто нибудь, кроме матери, заметил появление его на свет, очень немногие замечают его в течение жизни, но, верно, никто не заметит, как он исчезнет со света; никто не спросит, не пожалеет о нем, никто и не порадуется его смерти..."
У Алексеева нет своего мнения: "...Если при таком человеке подадут другие нищему милостыню – и он бросит ему свой грош, а если обругают, или прогонят, или посмеются – так и он обругает и посмеется с другими..."Алексеев всегда подстраивается под других:"...всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был...""...Что такое? – спросил Алексеев, стараясь сделать испуганное лицо..."
Господин Алексеев - покорный, безответный, кроткий человек:"...безответный, всему покорный и на все согласный Алексеев...""...Ничего с: я все могу есть, – сказал Алексеев...""...кроткого, безответного Алексеева...""...Алексеев, безмолвный и безответный гость..."
Алексеев не злой и не добрый человек:
"...добры потому только, что не злы..." Алексеев - честный, безобидный человек: "...сидит честная душа, овца овцой..."Алексеев родился в Петербурге и никогда в жизни не бывал за его пределами:"...он нигде не бывал: как родился в Петербурге, так и не выезжал никуда..."
Алексеев - пролетарий, человек простого происхождения:"...Зачем эти два русские пролетария ходили к нему...""...иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой..."
Алексеев - мелкий чиновник с небольшим жалованьем:"...и сверх того он служит в какой то неважной должности и получает неважное жалованье...""...В службе у него нет особенного постоянного занятия..."
Алексеев получает какой-то доход в 300 рублей в год (помимо жалованья на службе):"...Он имеет своего какого-то дохода рублей триста в год..."
Алексеев не бедный и не богатый человек:"...Богатым его нельзя назвать, потому что он не богат, а скорее беден; но решительно бедным тоже не назовешь, потому, впрочем, только, что много есть беднее его...""...нужды не терпит и денег ни у кого не занимает, а занять у него и подавно в голову никому не приходит..."
Алексеев - посредственность, человек без особых способностей: "...никак не могли заметить сослуживцы и начальники, что он делает хуже, что лучше, так, чтоб можно было определить, к чему он именно способен..."Алексеев не отличается умом:"...голова, не то, что вот эта, что тут в углу сидит, – сказал он, указывая на Алексеева..."
Алексеев любит всех вокруг и никого в частности:"...Но он как то ухитряется всех любить. Есть такие люди, в которых, как ни бейся, не возбудишь никак духа вражды, мщения и т. п. Что ни делай с ними, они всё ласкаются...""...про таких людей говорят, что они любят всех и потому добры, а, в сущности, они никого не любят..."
У Алексеева нет ни врагов, ни друзей, но есть много знакомых: "...У него нет ни врагов, ни друзей, но знакомых множество..." Алексеев старается ни о чем не тревожиться и не предаваться отчаянию: "...Что ж так тревожиться, Илья Ильич? – сказал Алексеев. – Никогда не надо предаваться отчаянию: перемелется – мука будет...""...Никогда не поймаешь на лице его следа заботы, мечты, что бы показывало, что он в эту минуту беседует сам с собою..."
Алексеев ничем не интересуется: "...никогда тоже не увидишь, чтоб он устремил пытливый взгляд на какой нибудь внешний предмет, который бы хотел усвоить своему ведению..."Алексеев иногда читает, а также любит послушать, как читают другие:"...Да-с, иногда читаю, или другие читают, разговаривают, а я слушаю..."
Алексеев часто бывает у Обломова:"...Таковы были два самые усердные посетителя Обломова..."
"...остановился перед картиной, которую видел тысячу раз прежде..."
Алексеев ходит к Обломову, чтобы вкусно поесть:
"...Зачем эти два русские пролетария ходили к нему? Они очень хорошо знали зачем: пить,есть, курить хорошие сигары. Они находили теплый, покойный приют и всегда одинаково если не радушный, то равнодушный прием..."
"...в каждом зажиточном доме толпится рой подобных лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для производительности и только с желудком для потребления, но почти всегда с чином и званием..."
Алексеев всячески старается угождать Обломову, выслушивает его жалобы, выполняет его просьбы и т.д.:"...Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший на пол платок? Кому можно пожаловаться на головную боль с правом на участие [...] иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой, поможет по хозяйству – не самим же мыкаться!.."
Отношение Обломова к Алексееву Обломов вполне дружелюбно относится к Алексееву. Илья Обломов терпит посещения Алексеева, потому что тот - "удобный", молчаливый, уступчивый человек, который подстраивается под окружающих: "...Посещения Алексеева Обломов терпел по другой, не менее важной причине [...] слушатель и участник, разделявший [...] и его молчание, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был..." Алексеев по сути является двойником Обломова. У этих двух персонажей есть много общего: и Обломов, и Алексеев оба отличаются тихим, кротким нравом, оба ничем не интересуются, оба ничего не хотят от жизни, оба не любят путешествовать и т.д. Это был цитатный образ и характеристика Алексеева в романе "Обломов" Гончарова: описание внешности и характера героя, портрет в цитатах, отношение Обломова к Алексееву и т.д.Смотрите: Все материалы по роману "Обломов"
www.literaturus.ru
К 200-ЛЕТИЮ И. А. ГОНЧАРОВА. Иван ВАСИЛЬЦОВ. ПИСЬМА ОБЛОМОВА. Эссе
Посвящается памяти моих родителей,Пыркова Владимира Ивановича и Васильцовой Нэли Даниловны
Кто же не помнит знаменитой обломовской чернильницы, этой ярчайшей архетипической детали, иллюстрирующей пресловутую леность Ильи Ильича Обломова?«На этажерках… лежали две-три развёрнутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с чернилами; но страницы, на которых развёрнуты были книги, покрылись плесенью и пожелтели… а из чернильницы, если бы обмакнуть в неё перо, вырвалась бы разве только с жужжанием испуганная муха». Иван Александрович Гончаров, великий мастер эпистолярного жанра, придаёт заброшенному его героем атрибуту письменности особое, конечно, значение. Сам-то он священнодействовал, когда писал письма: «Я сажусь за перо и бумагу, как музыкант садится за фортепьяно, птица за своё пение, и играю, пою, т. е. пишу всё то, что в ту минуту во мне делается». Так что высохшие чернила – это серьёзная характеристика обломовского быта. И дело тут, разумеется, не столько в лени Ильи Ильича (да и можно ли всерьёз назвать ленивым человека, с таким упорством отбивающегося от щипков и прикосновений жизни – «Жизнь трогает!»), сколько в принципиальном, вполне осознанном нежелании его поддерживать связь с внешним миром.И всё-таки письма играют в судьбе Обломова не последнюю роль. Из-за чего, к примеру, Илья Ильич вынужден был в своё время уйти со службы? Из-за письма, конечно! Из-за деловой бумаги, которую он ухитрился отправить «вместо Астрахани в Архангельск» (С. 62). Да, если уж Обломов ошибается, то по- крупному, масштабно, путая, по меньшей мере, юг и север. А две беды, точнее, «два несчастья», о которых твердит обитатель квартиры в Гороховой каждому своему утреннему визитеру? Это ведь два письма: одно пришло из деревни, от старосты, другое же нужно написать «к домовому хозяину», чтобы отсрочить переезд или вовсе, как выражается Обломов, «избегнуть крайностей» (С. 55).Но избегнуть крайностей, то есть найти «золотую середину», «золотую рамку жизни», по-обломовски, Илье Ильичу так легко не удастся. Как ни красноречив будет он, объясняя готовому сквозь землю провалиться Захару, почему переезд, то есть «ломка», «шум», это удел «других», а не его, барина, переехать ему всё-таки придётся. Проводник авторской воли Тарантьев, стоящий уже на пороге и отчаянно звонящий в дверь, позаботится об этом. И за ум Илье Ильичу предстоит взяться, и за перо. Об этом позаботятся Штольц с Ольгой. И каким же блестящим слогом напишет Обломов своё послание к Ольге! Напишет «быстро, с жаром, с лихорадочной поспешностью, не так, как в начале мая писал к домовому хозяину» (С. 221).Пока же именно начало мая, и Илья Ильич всё никак не может избежать «близкой и неприятной встречи двух которых и двух что», кряхтя над полулистом серой бумаги, которым Захар закрывал на ночь стакан, чтоб туда не попало «что-нибудь… ядовитое» (С. 80). Высохшие же совершенно чернила Захар, этот «рыцарь со страхом и упрёком», разводит по такому особенному случаю квасом.«– Какие скверные чернила!» – восклицает укоризненно Обломов и принимается всё-таки за письмо. Вот его текст:«Квартира, которую я снимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые переустройки, вполне соответствует моему образу жизни и приобретённой вследствие долгого пребывания в сем доме привычке. Известясь через крепостного моего человека, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира…» (С. 80). Заметим, что собственный стиль не устраивает в данном случае Илью Ильича, отлично разбирающегося в хорошем слоге. Он несколько раз переставляет слова местами, зачеркивает, переправляет их, но всё выходит «бессмыслица». «– Э! да чёрт с ним совсем, с письмом-то! Ломать голову из таких пустяков! Я отвык деловые письма писать» (С. 80). И на пол летят клочки разорванной бумаги…А вот от другого письма, или «несчастья», отделаться куда как тяжелее. Тут, пожалуй, и голову в пору поломать. И Обломов ломает. Дело в том, что Илья Ильич какое-то время назад получил депешу от Прокофия Вытягушкина – старосты, заправляющего теперь в Обломовке. Вся первая часть романа вплоть до «Сна Обломова» осенена унылым светом этого мято-
Гончаров И.А. Собрание сочинений. – М.: Художественная литература,1980. – т.3.го, «грязного такого», «с печатью из бурого сургуча» донесения. Плохие вести пришли из родной Обломовки. «Пятую неделю нет дождей»; «озимь ино место червь сгубил»; «под Иванов день ещё три мужика ушли»; «холста нашего сей год на ярмарке не будет» (С. 44). Отсюда печальный и весьма тревожащий далекого от дел и все-таки живущего доходами, собственно только, из деревни Илью Ильича итог: «В недоимках недобор: в нынешний год пошлём доходцу, батюшка ты наш, благодетель, тысящи яко две помене против того года…» (С. 44).И каждому из своих утренних гостей Обломов пытается рассказать о не дающем ему покоя письме, но кто-то, как солнечный зайчик грядущего лета Волков, франт Волков, легко и изящно отмахивается от обломовских несчастий тончайшим батистовым платком, ссылаясь на интенсивность светской жизни («– Pardon, некогда…»), кто-то, как деликатный Судьбинский, обременённый чиновными думами, обещает заехать на днях, кто-то, как литературный поденщик Пенкин, примитивно истолковывающий существо писательского труда, втягивает Обломова в полемику совсем о другом. Хотя, если вдуматься, о том же самом, конечно, – о человеке: «Человека, человека давайте мне! – говорил Обломов, – любите его…» (С. 39).Письмо же от старосты выслушивает сначала на всё согласный Алексеев, а после не соглашающийся ни с чем и никогда Тарантьев. Алексеев, этот «неполный, безличный намёк на людскую массу» (С. 41) – плохой советчик, точнее говоря – никакой. Его резюме звучит глухим и совершенно бесполезным для Обломова отголоском извечных – прописных – истин: «– Что ж так тревожиться, Илья Ильич?.. Никогда не надо предаваться отчаянию: перемелется – мука будет» (С. 45). И всё-таки в старых, как мир, словах Алексеева угадывается перспектива романного действия, чувствуется некое иное знание. Уж не великая ли хозяйка Агафья Матвеевна Пшеницына, где-то там, в дальнем конце романа, по ту сторону Невы, печёт из этой муки так полюбившийся Илье Ильичу пирог с цыплятами и грибами. Настоящий, обломовский!Михей Тарантьев, «земляк» Обломова, бесцеремонно навязывающий ему переезд на Выборгскую сторону, даёт, в отличие от Алексеева, самые решительные рекомендации. «– Ступай в деревню сам: без этого нельзя; пробудь там лето, а осенью прямо на новую квартиру и переезжай» (С. 55). Интересно, что Михей Андреевич сразу же разоблачает старосту и ставит, что называется, все точки над «и». «– Староста твой мошенник… а ты веришь ему, разиня рот. Видишь, какую песню поёт! Засухи, неурожай, недоимки да мужики ушли. Врёт, всё врёт!.. Ах, он разбойник, я бы его выучил!» (С. 55). А ещё Тарантьев наущает ошарашенного Обломова написать к самому губернатору: «Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участие и взгляните оком милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастие… и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться, с женой, и малолетними, остающимися без всякого призрения и куска хлеба, двенадцатью человеками детей…» (С. 56) Сильно сказано! Как тут не вспомнить крыловскую «Почту духов», где можно неожиданно наткнуться на такой вот, вполне актуальный и сегодня диалог:«– …Скажите мне, что это за бумаги, которые друг другу показывают многие, находящиеся в сей комнате.– Это бумаги… называемые просительными письмами; просители… самыми живыми красками доказывают в них свою бедность…– Они, конечно, смягчают… сих бояр?– Нимало… знатные имеют предосторожность не заглядывать в сии письма…»Обломов догадывается об этом обстоятельстве, и лишь смеётся в ответ на тарантьевскую тираду. И, правда, какой-либо практической пользы от гремящих разоблачений, угроз и советов Тарантьева не больше, чем от неопределённых сентенций Алексеева. «Тарантьев, – предупреждает читателя Гончаров, – мастер был только говорить; на словах он решал всё ясно и легко, особенно, что касалось других; но как только нужно было двинуть пальцем… применить им же созданную теорию к делу… его не хватало…» (С. 47).В окружении таких-то советчиков бедный Илья Ильич ждёт единственного, пожалуй, человека, который действительно может помочь ему справиться со свалившимися на голову «несчастьями», – Андрея Штольца. «Обломов хотя был ласков со всеми, но любил искренно его одного, верил ему одному, может быть потому, что рос, учился и жил с ним вместе» (С. 49). А пока вечно занятый, но на всё находящий время Штольц «в отлучке», Илья Ильич вновь и вновь обращается к письму от старосты, то просто упоминая его, то едва ли не наизусть цитируя (« – А?.. «яко тысячи две помене!»), то пытаясь забыть и даже теряя, чтобы снова отыскать где-нибудь в складках одеяла и с ужасом прочесть. Приглядимся же и мы повнимательнее к этому своеобразному шедевру письменности.Прокофий Вытягушкин, судя по всему, мастер составлять подобные отчё-ты. Как тут не вспомнить утверждение Тарантьева о том, что «все мошенни-ки пишут натурально» (класс натуральной школы уже блестяще закончен ищущим новых путей автором!). Безрадостные факты, свидетельствующие, между прочим, о его, старосты, упущениях или, скорее всего, просто о его плутовстве, ловко окутываются заверениями преданности, комплиментар-ными обращениями, самоуничижительными характеристиками, вроде такой: «Авось, милостивый государь, Господь помилует твою барскую милость, а о себе не заботимся: пусть издохнем!» (С. 44) К тому же в письме смешивают-ся календарно-обрядовые ориентиры, что для сегодняшнего читателя не столь заметно, но для Обломова, с издетства, как и его предки, живущего «по указанию календаря» – вопиющая несостыковка: « – Месяца и года нет, – качает головой Илья Ильич, – … тут и Иванов день, и засуха…» (С. 45). Вдобавок письмо заканчивается странной подписью, оставляющей, так сказать, некоторый простор для маневра. «Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин собственной рукой руку приложил». За неумением грамотности поставлен был крест. «А писал со слов оного старосты шурин его, Дёмка Кривой» (С. 44). (Любопытная параллель: история Обломова ведь тоже рассказана писателем со слов Штольца).Но сейчас о другом – о подписи, благодаря которой можно почти физически ощутить, как на Илью Ильича надвигаются разрозненные ряды кривых букв. Надвигаются неровным и всё же непобедимым строем. О почерке Дёмки Кривого Гончаров, кстати, не говорит ни слова, да этого и не требуется. Само собой ясно: буквы несут для адресата дополнительную, подспудную информацию, их функция, в том числе и художественная, близка здесь предназначению родовых знаков, родовых мет. Родовой знак – это, как известно, лаконичный рисунок, значок-символ, рассказывающий о том, чем живёт, чем славится, как работает, какие болести преодолевает тот или иной род. С помощью подобных значков издревле составлялись на Руси целые послания. Причём долгое время, даже в XIX ещё веке, родовые знаки соседствовали с письменностью. Угол – соха, прямая линия – земля, волнистая линия – вода или слёзы, конь у привязи – возвращение домой… А был и такой нерадостный знак – перечеркнутый каравай хлеба, символ неурожая и голода. Остается только догадываться, какие меты различает Илья Ильич в письме из родового своего имения. В любом случае это какая ни на есть, а всё же весточка из настоящего Обломовки, из неутешительного настоящего.А из прошлого? Знаменитый сон, который видит Обломов, это ведь, если разобраться, его заветная родовая мета, это то, что помогает ему оставаться самим собой – всегда. (Изменяется не Обломов, а мир!) Это его солнечный родовой знак. «Увертюрой ко всему роману» назвал Гончаров IX главу первой части. Без «Сна…» образ Обломова потерял бы своё обаяние, потому что лишился бы связи «с почвой родной Обломовки». А роман лишился бы главного источника света. Заметим, писатель до определённого времени всеми возможными способами приглушает свет, затемняет его, «забывает» про слово «солнце». От серого сюртука Захара уже некуда деться, в некоторых абзацах текста он многократно тиражируется, а рядом – «паутина, напитанная пылью», «пожелтевшие страницы» давно открытой на одном и том же месте книги, замасленные тетрадки, какая-то грязноватая бумажка из кармана Тарантьева, колеблющийся дым его сигары, тёмный камень перстня на пальце доктора… И «серая бумага письма», написанного бледными чернилами. («На небе ни облачка, а вы выдумали дождь…» – говорит Алексеев, чей точно бы сотканный из пыли и муки образ неизбежно рухнул бы рядом со словом «солнце»).Автор до поры бережёт солнечные лучи и только один раз упоминает про Обломовку, название которой само по себе не может пока вызвать у нас никаких эмоций. Но «Сон…», как огромный проран света, вот-вот уже заставит читателя зажмуриться: солнечные берёзы, солнечные пространства, речка, отражающая солнце и слепящая глаза, пылкое солнце выпеченных по весне жаворонков, снежное солнце Рождества… «Но лето, лето особенно упоительно в том краю… Как пойдут ясные дни, то и длятся недели три-четыре…». Где же ещё, как не в Обломовке, «искать ясных дней, слегка жгущих, но не палящих лучей солнца…» (С. 97).А ещё «Сон Обломова» одухотворён утренним светом материнской молитвы – чистым светом любви. «Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две тёплые слезы» (С. 101). Когда-то ведь и Гончаров, рано покинувший родные пенаты, ждал весточек с родины, когда-то и его звали вернуться родные голоса.Такое вот солнечное, до горящей в глазах слезы светлое письмо получает Илья Ильич из былого, и действительно счастлив, когда читает только его.«Обломов» – самый тёплый, самый просторный роман Гончарова. В нём столь много обжитого, удобного к жизни пространства, так светлы солнечные лучи и ясны дали, настолько близка и зрима сама земля, так чисты помыслы и мечты, до того искренни слова и слёзы, что роман сам по себе воспринимается читателем, как нечто с издетства ему сопутствующее, родное. Даже планы, которые постоянно вынашивает Илья Ильич. Мы понимаем, что они для Обломова неосуществимы, как неосуществимы, скажем, рекомендации доктора, предлагающего Илье Ильичу поехать в Киссенген, Швейцарию, Тироль и развлекать там себя верховой ездой. Понимаем умом. Но сердцем понять этого не хотим и не можем. А ведь и вправду хорошо мечтает наш «поэт в жизни»: « – Погода прекрасная, небо синее-пресинее… одна сторона дома в плане обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая – к деревне. В ожидании, пока проснётся жена, я надел бы шлафрок и походил по саду… Потом, надев просторный сюртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талью, углубиться с ней в бесконечную, тёмную аллею… Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую рощу, а не то в поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры и там блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса…» (С. 162).Ответ на вопрос, почему Обломов не едет в деревню, всё медлит, всё откладывает возвращение на родину, всё никак не может завершить и осуществить свой план, вполне очевиден: он ведь прекрасно понимает, что Обломовки, в которой вырос он, давно уже нет, нет в живых матери с отцом, изменилась сама жизнь, дрогнули её привычные устои, исчезло равновесие. Вот и получается, что Обломовка теперь там, где Обломов, потому что он свято несёт её в сердце, живёт по её ритму и времени. Да, Илья Ильич пытается жить по индивидуальному – обломовскому – летоисчислению, хотя и терпит в итоге сокрушительное поражение от главного своего противника – времени. Так тема лишнего человека становится в романе Гончарова темой лишнего мира.В истории отечественной словесности само чудо письма всегда имело глубочайшую морально-нравственную основу. Взять, хотя бы, одно из последних писем А. Н. Некрасова, когда он, умирающий, нашёл в себе силы ответить простой сельской учительнице А. Малоземовой… (См.: Некрасов А. Н. Полн. Собр. соч. и писем: В 12 Т. – М., 1948-1952. – Т.11 – С. 413) Письма и письмена гончаровского романа тоже тяготеют к некоему нравственному полю, соприкасаясь с трепещущими вопросами бытия.Когда романное действие начнёт разгораться и прерывистое дыхание поющей Ольги станет почти различимым, Илью Ильича потрясёт до глубины души одно слово, «ядовитое» слово, которому суждено будет в своё время озариться пламенем гениальной добролюбовской статьи. Да, да, «обломовщина». Это слово Илья Ильич произносит на разные лады, повторяет, обдумывает, так и сяк мысленно примеривает к себе, а ещё и пытается записать. Но поскольку, как мы помним, обломовская чернильница вышла из строя, Илья Ильич бессознательно прибегает к другому средству: «Он задумался и машинально начал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что написал: вышло Обломовщина.Он проворно стёр написанное рукавом. Это слово снилось ему ночью, написанное огнём на стенах, как Бальтазару на пиру» (С. 168).Вспомним, по библейской легенде, на стенах дворца, где пировал царь Валтасар, неожиданно начали выступать огненные слова: исчислено, взвешено, разделено, предвещавшие скорую гибель его царства. Пламенные письмена судьбы!К слову, письмо и огонь порой неразделимы. Читая хрестоматийно известное стихотворение боготворимого Гончаровым Пушкина «Храни меня, мой талисман…», мы даже не задумываемся порой, что «талисманом» Пушкин называл перстень, подаренный ему на юге Е. К. Воронцовой. Этим перстнем Александр Сергеевич мог запечатывать письма или оставлять его сургучный оттиск на подаренных книгах со своим автографом. В стихотворении «Сожжённое письмо» поэт ещё раз возвращается к теме перстня-талисмана:Прощай, письмо любви, прощай!Как долго медлил я, как долго не хотелаРука предать огню все радости мои!..Но полно, час настал: гори, письмо любви.От подобных страстей обломовцы были далеки. Не случайно же они так не любили писать и особенно получать письма, опасаясь не то чтобы дурных вестей, а вестей вообще, в принципе. Череда жизни, её обрядовая последовательность не должна была нарушаться чем-то или кем-то извне, раз и навсегда установленный самой, кажется, природой порядок событий неукоснительно чтился обитателями «избранного уголка». Как знать, может именно поэтому в Обломовке рождались «розовые купидоны», а доживали люди чуть ли не до зелёных волос.Отец Обломова, например, долго распекал мужика, доставившего на свою беду письмо из города: « – Да ты где взял?»; « – Кто тебе дал?»; « – А ты бы не брал!» (С. 124). Когда же ясно стало, что от письма никак не отделаться, его спрятали под замок. « – Полно, не распечатывай, Илья Иванович, – с боязнью остановила его жена, – кто его знает, какое оно там, письмо-то? может быть, ещё страшное, беда какая-нибудь. Вишь ведь народ-то какой нынче стал! Завтра или послезавтра успеешь…» (С. 125). Вскоре тревожное любопытство взяло все-таки верх, и письмо распечатали. Правильно тревожились обломовцы, ведь послание оказалось от… Радищева! Речь идёт, понятное дело, об однофамильце, о соседе обломовцев – Филиппе Матвеевиче Радищеве, который попросил всего лишь прислать ему рецепт пива. Однако тень, так сказать, великой фамилии, производит сильное и грозное впечатление, такие совпадения запоминаются читательским подсознанием. Что и говорить, Гончаров, обладающий опытом цензора и прекрасно владеющий искусством подтекста, умел задавать загадки…И действительно, «неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта» (С. 126).В удивительных своих, трепетных, полных отцовской любви и мудрости «Письмах к сыну» Честерфилд справедливо заметил: «Хороший химик из любого вещества сможет извлечь ту или иную эссенцию: так и человек способный… может извлечь нечто для себя интересное из каждого, с кем он вступит в общение». Общаясь, иногда поневоле, с людьми, Илья Ильич Обломов, как ни странно, проявлял недюжинную проницательность. Будучи совершенно не сведущим в вопросах быта («Я ничего не знаю!»), запросто доверяя судьбу проходимцам, вроде Мухоярова и Затертого, он вместе с тем насквозь видел суетную сущность чиновного или светского Петербурга, безошибочно мог угадать главные болевые точки современной ему действительности.« – Что ж не обломовщина? – задает он риторический вопрос Штольцу. – Разве не все добиваются того же, о чём я мечтаю? Помилуй!.. Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление… к идеалу утраченного рая?» (С. 163).Но в настоящую «химическую реакцию» с жизнью благородная теория Ильи Ильича о выделке покоя вступает лишь тогда, когда появляется Ольга Ильинская. Кстати, звонкая пощёчина – единственная в романе! – дело, если так можно выразиться, руки именно Обломова, который не прощает Тарантьева, решительно заступаясь за честь любимого человека.С момента встречи Ильи Обломова и Ольги Ильинской сердце романа начинает биться сильнее, меняется его ритм, меняется, так сказать, наклон его письма, время движется скачками, то замедляясь и почти останавливаясь, то неудержимо летя вперед, как в разговоре между влюблёнными:« – Что со мной? – в раздумье спросил будто себя Обломов.– Сказать что?– Скажите.– Вы… влюблены.– Да, конечно, – подтвердил он, отрывая её руку от канвы…– Ну пустите, довольно, – сказала она.– А вы? – спросил он. – Вы… не влюблены…– Влюблена, нет… я не знаю, боюсь этого: я вас люблю! – сказала она и поглядела на него долго и задумчиво, как будто мысленно поверяла и себя, точно ли она любит.– Лю-блю! – произнёс Обломов…» (С. 215)«Мариенбадское чудо» помогает перу Гончарова вдохновенно летать над страницами.В недрах художественного текста происходит, как характеризовал подобные процессы Ю. М. Лотман, определённый «стилистический слом». И ярче всего этот титанический сдвиг стиля отражается в письме, которое пишет Илья Ильич Ольге.«Пока между нами любовь появилась в виде лёгкого, улыбающегося видения, пока она звучала в Casta diva, носилась в запахе сиреневой ветки, в невысказанном участии, в стыдливом взгляде, я не доверял ей, принимая её за игру воображения и шёпот самолюбия. Но шалости прошли; я стал болен любовью, почувствовал симптомы страсти; вы стали задумчивы, серьёзны; отдали мне ваши досуги; у вас заговорили нервы; вы начали волноваться, и тогда, то есть теперь только, я испугался и почувствовал, что на меня падает обязанность остановиться и сказать, что это такое.Я сказал, что люблю вас, вы ответили тем же – слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Так услышите позже, когда я буду уже в бездне. Посмотрите на меня, вдумайтесь в моё существование: можно ли вам любить меня?.. «Люблю, люблю, люблю!» – сказали вы вчера. «Нет, нет, нет!» – твёрдо отвечаю я» (С. 222).Сразу видно, эти строки написаны любящим сердцем! Обломов совершенно по-детски пытается объяснить Ольге, что она достойна лучшей участи, раскрывает душу перед ней, и в каждом его «нет» слышится «да». Отрицание становится утверждением.Такая тонкая натура, как Ольга Ильинская, не может не чувствовать этого.Обломов добился своего, «всё изгадил», как он выражается, и Ольга плачет, прочитав его исповедь. Но слёзы её светлы.« – У сердца, когда оно любит, есть свой ум… оно знает, чего хочет, и знает наперёд, что будет…» (С.229) – говорит Ольга, глядя любящими глазами на Обломова.« – Ведь письмо-то было совсем не нужно…» – бормочет Илья Ильич. « – Неправда, оно было необходимо», – возражает, почти уже играя с ним, Ольга. И далее растолковывает Илье Ильичу – почему именно: «…потому, что в письме этом, как в зеркале, видна ваша… забота обо мне, боязнь за моё счастье, ваша чистая совесть… Вы высказались там невольно: вы не эгоист, Илья Ильич, вы написали совсем не для того, чтоб расставаться, – этого вы не хотели, а потому, что боялись обмануть меня… это говорила честность… Видите, я знаю, за что я люблю вас…» (С. 232).И далее следует потрясающая фраза автора, многое объясняющая в отношениях Ильи Ильича и Ольги Ильинской: «Она показалась Обломову в блеске, в сиянии, когда говорила это» (С. С. 232).Да, любящее сердце знает наперёд, что будет. Трудно поспорить с этим. Но ведь и читатель, знакомый с гончаровским романом, тоже знает кое-что наперёд. О том, например, что «бездна», о которой постоянно упоминает в письме Обломов, и впрямь разверзнется перед ним, что «душевный антонов огонь» превратится в горячку, а Ольга, как и предполагал Илья Ильич, дождётся другого.Мало того, настанет время, когда Ольга Ильинская расскажет тому, другому, то есть, собственно, Андрею Штольцу, «о прогулках, о парке, о своих надеждах… о ветке сирени, даже о поцелуе». И отдаст ему в руки письмо Обломова. И Штольц, подойдя к свечке, будет читать это письмо вслух и препарировать его, как прекратившее уже биться сердце.«Письмо любви» – вспомним вновь пушкинскую формулу! – не сгорает, как и быть должно, а становится предметом холодного анализа.Гончаров огромное значение придает интонации штольцевского прочтения, тем акцентам и логическим ударениям, которые ставит он.« – Слушайте же! – и читал: – «Ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущая. Это только бессознательная потребность любить, которая, за недостатком настоящей пищи, высказывается иногда у женщин… даже просто в слезах или в истерических припадках!.. Вы ошиблись (читал Штольц, ударяя на этом слове): перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите – он придёт, и тогда вы очнётесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку…» – Видите, как это верно! – сказал он. – Вам было и стыдно, и досадно за… ошибку» (С. 362).Потрясающе, но это то же самое и вместе с тем совершенно другое письмо. В нём каждое утверждение есть утверждение, а каждое отрицание есть отрицание. И только. Из него ушло дыхание, из него ушёл свет. «Сирени отошли, поблекли…» Умница Штольц, так понимающе сравнивший когда-то душу Обломова со светлой берёзовой рощей, многого не смог понять, или понял, напротив, слишком многое, а Ольга поступила так, как, верно, никогда не поступил бы Обломов…
«– Что же вы не пишете?» – доносится до нас воркующий голосок Алексеева. «– Я бы вам пёрышко очинил» (С.60).…Роман Ивана Александровича Гончарова «Обломов», этот родовой символ русской литературы, чем-то похож на письмо с родины, которое мы, сегодняшние его получатели, читаем – совершенно по разным причинам – со слезами на глазах.
Васильцов Иван (Пырков Иван Владимирович) родился в 1972 году в Ульяновске.В 1995 году окончил Саратовский педагогический институт.Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и культуры Саратовской государственной академии права.Автор книг: «Дубовый меч», «Ищите мир».Лауреат Международной премии «Золотое перо России».Член Союза писателей России, член Союза журналистов России.
ulpressa.ru
|
все на Волгу, на работу на барки ушли - такой нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш, батюшка, Илья Ильич! Холста нашего сей год на ярмарке не будет: сушильню и белильню запер на замок и Сычуга приставил денно и ночно смотреть: он тверезый мужик; да чтобы не стянул чего господского, я смотрю за ним денно и ночно. Другие больно пьют и просятся на оброк. В недоимках недобор: нынешний год пошлем доходцу, будет, батюшка ты наш, благодетель, тысящи яко две помене против того года, что прошел, только бы засуха не разорила вконец, а то вышлем, о чем твоей милости и предлагаем". Затем следовали изъявления преданности и подпись: "Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин собственной рукой руку приложил". За неумением грамоты поставлен был крест. "А писал со слов оного старосты шурин его. Демка Кривой". Обломов взглянул на конец письма. - Месяца и года нет, - сказал он, - должно быть, письмо валялось у старосты с прошлого года; тут и Иванов день и засуха! Когда опомнился! Он задумался. - А? - продолжал он. - Каково вам покажется: предлагает "тысящи яко две помене"! Сколько же это останется? Сколько, бишь, я прошлый год получил? - спросил он, глядя на Алексеева. - Я не говорил вам тогда? Алексеев обратил глаза к потолку и задумался. - Надо Штольца спросить, как приедет, - продолжал Обломов, - кажется, тысяч семь, восемь... худо не записывать! Так он теперь сажает меня на шесть! Ведь я с голоду умру! Чем тут жить? - Что ж так тревожиться, Илья Ильич? - сказал Алексеев. - Никогда не надо предаваться отчаянию: перемелется - мука будет. - Да вы слышите, что он пишет? Чем бы денег прислать, утешить как-нибудь, а он, как на смех, только неприятности делает мне! И ведь всякий год! Вот я теперь сам не свой! "Тысящи яко две помене"! - Да, большой убыток, - сказал Алексеев, - две тысячи - не шутка! Вот Алексей Логиныч, говорят, тоже получит нынешний год только двенадцать тысяч вместо семнадцати... - Так двенадцать, а не шесть, - перебил Обломов. - Совсем расстроил меня староста! Если оно и в самом деле так: неурожай да засуха, так зачем огорчать заранее? - Да... оно в самом деле... - начал Алексеев, - не следовало бы; но какой же деликатности ждать от мужика? Этот народ ничего не понимает. - Ну, что бы вы сделали на моем месте? - спросил Обломов, глядя вопросительно на Алексеева, с сладкой надеждой, авось не выдумает ли, чем бы успокоить. - Надо подумать, Илья Ильич, нельзя вдруг решить, - сказал Алексеев. - К губернатору, что ли, написать! - в раздумье говорил Илья Ильич. - А кто у вас губернатор? - спросил Алексеев. Илья Ильич не отвечал и задумался. Алексеев замолчал и тоже о чем-то размышлял. Обломов, комкая письмо в руках, подпер голову руками, а локти упер в коленки и так сидел несколько времени, мучимый приливом беспокойных мыслей. - Хоть бы Штольц скорей приехал! - сказал он. - Пишет, что скоро будет, а сам черт знает где шатается! Он бы уладил. Он опять пригорюнился. Долго молчали оба. Наконец Обломов очнулся первый. - Вот тут что надо делать! - сказал он решительно и чуть было не встал с постели, - и делать как можно скорее, мешкать нечего... Во-первых... В это время раздался отчаянный звонок в передней, так что Обломов с Алексеевым вздрогнули, а Захар мгновенно спрыгнул с лежанки. III - Дома? - громко и грубо кто-то спросил в передней. - Куда об эту пору идти? - еще грубее отвечал Захар. Вошел человек лет сорока, принадлежащий к крупной породе, высокий, объемистый в плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими навыкате глазами, толстогубый. Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чем-то грубом и неопрятном. Видно было, что он не гонялся за изяществом костюма. Не всегда его удавалось видеть чисто обритым. Но ему, повидимому, это было все равно; он не смущался от своего костюма и носил его с каким-то циническим достоинством. Это был Михей Андреевич Тарантьев, земляк Обломова. Тарантьев смотрел на все угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить все и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который недобровольно, неуныло покоряется ей. Движения его были смелы и размашисты; говорил он громко, бойко и почти всегда сердито; если слушать в некотором отдалении, точно будто три пустые телеги едут по мосту. Никогда не стеснялся он ничьим присутствием и в карман за словом не ходил и вообще постоянно был груб в обращении со всеми, не исключая и приятелей, как будто давал чувствовать, что, заговаривая с человеком, даже обедая или ужиная у него, он делает ему большую честь. Тарантьев был человек ума бойкого и хитрого; никто лучше его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса или юридического запутанного дела: он сейчас построит теорию действий в том или другом случае и очень тонко подведет доказательства, а в заключение еще почти всегда нагрубит тому, кто с ним о чем-нибудь посоветуется. Между тем сам как двадцать пять лет назад определился в какую-то канцелярию писцом, так в этой должности и дожил до седых волос. Ни ему самому и никому другому и в голову не приходило, чтоб он пошел выше. Дело в том, что Тарантьев мастер был только говорить; на словах он решал все ясно и легко, особенно что касалось других; но как только нужно было двинуть пальцем, тронуться с места - словом, применить им же созданную теорию к делу и дать ему практический ход, оказать распорядительность, быстроту, - он был совсем другой человек: тут его не хватало - ему вдруг и тяжело делалось, и нездоровилось, то неловко, то другое дело случится, за которое он тоже не примется, а если и примется, так не дай бог что выйдет. Точно ребенок: там не доглядит, тут не знает каких-нибудь пустяков, там опоздает и кончит тем, что бросит дело на половине или примется за него с конца и так все изгадит, что и поправить никак нельзя, да еще он же потом и браниться станет. Отец его, провинциальный подьячий старого времени, назначал было сыну в наследство искусство и опытность хождения по чужим делам и свое ловко пройденное поприще служения в присутственном месте; но судьба распорядилась иначе. Отец, учившийся сам когда-то по-русски на медные деньги, не хотел, чтоб сын его отставал от времени, и пожелал поучить чему-нибудь, кроме мудреной науки хождения по делам. Он года три посылал его к священнику учиться по-латыни. Способный от природы мальчик в три года прошел латынскую грамматику и синтаксис и начал было разбирать Корнелия Непота, но отец решил, что довольно и того, что он знал, что уж и эти познания дают ему огромное преимущество над старым поколением и что, наконец, дальнейшие занятия могут, пожалуй, повредить службе в присутственных местах. Шестнадцатилетний Михей, не зная, что делать с своей латынью, стал в доме родителей забывать ее, но зато, в ожидании чести присутствовать в земском или уездном суде, присутствовал пока на всех пирушках отца, и в этой-то школе, среди откровенных бесед, до тонкости развился ум молодого человека. Он с юношескою впечатлительностью вслушивался в рассказы отца и товарищей его о разных гражданских и уголовных делах, о любопытных случаях, которые проходили через руки всех этих подьячих старого времени. Но все это ни к чему не повело. Из Михея не выработался делец и крючкотворец, хотя все старания отца и клонились к этому и, конечно, увенчались бы успехом, если б судьба не разрушила замыслов старика. Михей действительно усвоил себе всю теорию отцовских бесед, оставалось только применить ее к делу, но за смертью отца он не успел поступить в суд и был увезен в Петербург каким-то благодетелем, который нашел ему место писца в одном департаменте, да потом и забыл о нем. Так Тарантьев и остался только теоретиком на всю жизнь. В петербургской службе ему нечего было делать с своею латынью и с тонкой теорией вершать по своему произволу правые и неправые дела; а между тем он носил и сознавал в себе дремлющую силу, запертую в нем враждебными обстоятельствами навсегда, без надежды на проявление, как бывали запираемы, по сказкам, в тесных заколдованных стенах духи зла, лишенные силы вредить. Может быть, от этого сознания бесполезной силы в себе Тарантьев был груб в обращении, недоброжелателен, постоянно сердит и бранчив. Он с горечью и презрением смотрел на свои настоящие занятия: на переписыванье бумаг, на подшиванье дел и т. п. Ему вдали улыбалась только одна последняя надежда: перейти служить по винным откупам. На этой дороге он видел единственную выгодную замену поприща, завещанного ему отцом и не достигнутого. А в ожидании этого готовая и созданная ему отцом теория деятельности и жизни, теория взяток и лукавства, миновав главное и достойное ее поприще в провинции, применилась ко всем мелочам его ничтожного существования в Петербурге, вкралась во все его приятельские отношения за недостатком официальных. Он был взяточник в душе, по теории, ухитрялся брать взятки, за неимением дел и просителей, с сослуживцев, с приятелей, бог знает как и за что - заставлял, где и кого только мог, то хитростью, то назойливостью, угощать себя, требовал от всех незаслуженного уважения, был придирчив. Его никогда не смущал стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, если в перспективе дня не было у него громадного обеда, с приличным количеством вина и водки. От этого он в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел. Таковы были два самые усердные посетителя Обломова. Зачем эти два русские пролетария ходили к нему? Они очень хорошо знали зачем: пить, есть, курить хорошие сигары. Они находили теплый, покойный приют и всегда одинаково если не радушный, то равнодушный прием. Но зачем пускал их к себе Обломов - в этом он едва ли отдавал себе отчет. А кажется, затем, зачем еще о сю пору в наших отдаленных Обломовках, в каждом зажиточном доме толпился рой подобных лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для производительности и только с желудком для потребления, но почти всегда с чином и званием. Есть еще сибариты, которым необходимы такие дополнения в жизни: им скучно без лишнего на свете. Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший на пол платок? Кому можно пожаловаться на головную боль с правом на участие, рассказать дурной сон и потребовать истолкования? Кто почитает книжку на сон грядущий и поможет заснуть? А иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой, поможет по хозяйству - не самим же мыкаться! Тарантьев делал много шума, выводил Обломова из неподвижности и скуки. Он кричал, спорил и составлял род какого-то спектакля, избавляя ленивого барина самого от необходимости говорить и делать. В комнату, где царствовал сон и покой, Тарантьев приносил жизнь, движение, а иногда и вести извне. Обломов мог слушать, смотреть, не шевеля пальцем, на что-то бойкое, движущееся и говорящее перед ним. Кроме того, он еще имел простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен посоветовать ему что-нибудь путное. Посещения Алексеева Обломов терпел по другой, не менее важной причине. Если он хотел жить по-своему, то есть лежать молча, дремать или ходить по комнате, Алексеева как будто не было тут: он тоже молчал, дремал или смотрел в книгу, разглядывал с ленивой зевотой до слез картинки и вещицы. Он мог так пробыть хоть трои сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному и он чувствовал потребность выразиться, говорить, читать, рассуждать, проявить волнение, - тут был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был. Другие гости заходили не часто, на минуту, как первые три гостя; с ними со всеми все более и более порывались живые связи. Обломов иногда интересовался какою-нибудь новостью, пятиминутным разговором, потом, удовлетворенный этим, молчал. Им надо было платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало. Они купались в людской толпе; всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел понимать ее Обломов, а они путали в нее и его: все это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по душе. Был ему по сердцу один человек: тот тоже не давал ему покоя; он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, искреннее - и Обломов хотя был ласков со всеми, но любил искренне его одного, верил ему одному, может быть потому, что рос, учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц. Он был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час. IV - Здравствуй, земляк, - отрывисто сказал Тарантьев, протягивая мохнатую руку к Обломову. - Чего ты это лежишь по сю пору, как колода? - Не подходи, не подходи: ты с холода! - говорил Обломов, прикрываясь одеялом. - Вот еще - что выдумал - с холода! - заголосил Тарантьев. - Ну, ну, бери руку, коли дают! Скоро двенадцать часов, а он валяется! Он хотел приподнять Обломова с постели, но тот предупредил его, опустив быстро ноги и сразу попав ими в обе туфли. - Я сам сейчас хотел вставать, - сказал он зевая. - Знаю я, как ты встаешь: ты бы тут до обеда провалялся. Эй, Захар! Где ты там, старый дурак? Давай скорей одеваться барину. - А вы заведите-ка прежде своего Захара, да и лайтесь тогда! - заговорил Захар, войдя в комнату и злобно поглядывая на Тарантьева. - Вон натоптали как, словно разносчик! - прибавил он. - Ну, еще разговаривает, образина! - говорил Тарантьев и поднял ногу, чтоб сзади ударить проходившего мимо Захара; но Захар остановился, обернулся к нему и ощетинился. - Только вот троньте! - яростно захрипел он. - Что это такое? Я уйду... - сказал он, идучи назад к дверям. - Да полно тебе, Михей Андреич, какой ты неугомонный! Ну что ты его трогаешь? - сказал Обломов. - Давай, Захар, что нужно! Захар воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо его. Обломов, облокотясь на него, нехотя, как очень утомленный человек, привстал с постели и, нехотя же перейдя на большое кресло, опустился в него и остался неподвижен, как сел. Захар взял со столика помаду, гребенку и щетки, напомадил ему голову, сделал пробор и потом причесал его щеткой. - Умываться теперь, что ли, будете? - спросил он. - Немного погожу еще, - отвечал Обломов, - а ты поди себе. - Ах, да и вы тут? - вдруг сказал Тарантьев, обращаясь к Алексееву в то время, как Захар причесывал Обломова. - Я вас и не видал. Зачем вы здесь? Что это ваш родственник какая свинья! Я вам все хотел сказать... - Какой родственник? У меня никакого родственника нет, - робко отвечал оторопевший Алексеев, выпуча глаза на Тарантьева. - Ну, вот этот, что еще служит тут, как его?.. Афанасьев зовут. Как же не родственник? - родственник. - Да я не Афанасьев, а Алексеев, - сказал Алексеев, - у меня нет родственника. - Вот еще не родственник! Такой же, как вы, невзрачный, и зовут тоже Васильем Николаичем. - Ей-богу, не родня; меня зовут Иваном Алексеичем. - Ну, все равно, похож на вас. Только он свинья; вы ему скажите это, как увидите. - Я его не знаю, не видал никогда, - говорил Алексеев, открывая табакерку. - Дайте-ка табаку! - сказал Тарантьев. - Да у вас простой, не французский? Так и есть, - сказал он понюхав. - Отчего не французский? - строго прибавил потом. - Да, еще этакой свиньи я не видывал, как ваш родственник, - продолжал Тарантьев. - Взял я когда-то у него, уж года два будет, пятьдесят рублей взаймы. Ну, велики ли деньги пятьдесят рублей? Как, кажется, не забыть? Нет, помнит: через месяц, где ни встретит: "А что ж должок?" - говорит. Надоел! Мало того, вчера к нам в департамент пришел: "Верно, вы, говорит, жалованье получили, теперь можете отдать". Дал я ему жалованье: пошел при всех срамить, так он насилу двери нашел. "Бедный человек, самому надо!" Как будто мне не надо! Я что за богач, чтоб ему по пятидесяти рублей отваливать! Дай-ка, земляк, сигару. - Сигары вон там, в коробочке, - отвечал Обломов, указывая на этажерку. Он задумчиво сидел в креслах, в своей лениво-красивой позе, не замечая, что вокруг него делалось, не слушая, что говорилось. Он с любовью рассматривал и гладил свои маленькие, белые руки. - Э! Да это все те же? - строго спросил Тарантьев, вынув сигару и поглядывая на Обломова. - Да, те же, - отвечал Обломов машинально. - А я говорил тебе, чтоб ты купил других, заграничных? Вот как ты помнишь, что тебе говорят! Смотри же, чтоб к следующей субботе непременно было, а то долго не приду. Вишь, ведь какая дрянь! - продолжал он, закурив сигару и пустив одно облако дыма на воздух, а другое втянув в себя. - Курить нельзя. - Ты рано сегодня пришел, Михей Андреич, - сказал Обломов зевая. - Что ж, я надоел тебе, что ли? - Нет, я так только заметил; ты обыкновенно к обеду прямо приходишь, а теперь только еще первый час. - Я нарочно заранее пришел, чтоб узнать, какой обед будет. Ты все дрянью кормишь меня, так я вот узнаю, что-то ты велел готовить сегодня. - Узнай там, на кухне, - сказал Обломов. Тарантьев вышел. - Помилуй! - сказал он воротясь. - Говядина и телятина! Эх, брат Обломов, не умеешь ты жить, а еще помещик! Какой ты барин? По-мещански живешь; не умеешь угостить приятеля! Ну, мадера-то куплена? - Не знаю, спроси у Захара, - почти не слушая его, сказал Обломов, - там, верно, есть вино. - Это прежняя-то, от немца? Нет, изволь в английском магазине купить. - Ну, и этой довольно, - сказал Обломов, - а то еще посылать! - Да постой, дай деньги, я мимо пойду и принесу; мне еще надо кое-куда сходить. Обломов порылся в ящике и вынул тогдашнюю красненькую десятирублевую бумажку. - Мадера семь рублей стоит, - сказал Обломов, - а тут десять. - Так дай все: там дадут сдачи, не бойся! Он выхватил из рук Обломова ассигнацию и проворно спрятал в карман. - Ну, я пойду, - сказал Тарантьев, надевая шляпу, - а к пяти часам буду; мне надо кое-куда зайти: обещали место в питейной конторе, так велели понаведаться ... Да вот что, Илья Ильич: не наймешь ли ты коляску сегодня, в Екатерингоф ехать? И меня бы взял. Обломов покачал головой в знак отрицания. - Что, лень или денег жаль? Эх ты, мешок! - сказал он. - Ну, прощай пока... - Постой, Михей Андреич, - прервал Обломов, мне надо кое о чем посоветоваться с тобой. - Что еще там? Говори скорей: мне некогда. - Да вот на меня два несчастья вдруг обрушились. С квартиры гонят... - Видно, не платишь: и поделом! - сказал Тарантьев и хотел идти. - Поди ты! Я всегда вперед отдаю. Нет, тут хотят другую квартиру отделывать... Да постой! Куда ты? Научи, что делать: торопят, через неделю чтоб съехали... - Что я за советник тебе достался?.. Напрасно ты воображаешь... - Я совсем ничего не воображаю, - сказал Обломов, - не шуми и не кричи, а лучше подумай, что делать. Ты человек практический... Тарантьев уже не слушал его и о чем-то размышлял. - Ну, так и быть, благодари меня, - сказал он, снимая шляпу и садясь, - и вели к обеду подать шампанского: дело твое сделано. - Что такое? - спросил Обломов. - Шампанское будет? - Пожалуй, если совет стоит... - Нет, сам-то ты не стоишь совета. Что я тебе даром-то стану советовать? Вон спроси его, - прибавил он, указывая на Алексеева, - или у родственника его. - Ну, ну, полно, говори! - просил Обломов. - Вот что: завтра же изволь переезжать на квартиру... - Э! Что придумал! Это я и сам знал... - Постой, не перебивай! - закричал Тарантьев. - Завтра переезжай на квартиру к моей куме, на Выборгскую сторону... - Это что за новости? На Выборгскую сторону! Да туда, говорят, зимой волки забегают. - Случается, забегают с островов, да тебе что до этого за дело? - Там скука, пустота, никого нет. - Врешь! Там кума моя живет: у ней свой дом, с большими огородами. Она женщина благородная, вдова, с двумя детьми; с ней живет холостой брат: голова, не то что вот эта, что тут в углу сидит, - сказал он, указывая на Алексеева, - нас с тобой за пояс заткнет! - Да что ж мне до всего до этого за дело? - сказал с нетерпением Обломов. - Я туда не перееду. - А вот я посмотрю, как ты не переедешь. Нет, уж коли спросил совета, так слушайся, что говорят. - Я не перееду, - решительно сказал Обломов. - Ну, так черт с тобой! - отвечал Тарантьев, нахлобучив шляпу, и пошел к дверям. - Чудак ты этакой! - воротясь, сказал Тарантьев. - Что тебе здесь сладко кажется? - Как что? От всего близко, - говорил Обломов, - тут и магазины, и театр, и знакомые... центр города, все... - Что-о? - перебил Тарантьев. - А давно ли ты ходил со двора, скажи-ка? Давно ли ты был в театре? К каким знакомым ходишь ты? На кой чорт тебе этот центр, позволь спросить! - Ну как зачем? Мало ли зачем! - Видишь, и сам не знаешь! А там, подумай: ты будешь жить у кумы моей, благородной женщины, в покое, тихо; никто тебя не тронет; ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотри-ка, ведь ты живешь точно на постоялом дворе, а еще барин, помещик! А там чистота, тишина; есть с кем и слово перемолвить, как соскучишься. Кроме меня, к тебе и ходить никто не будет. Двое ребятишек - играй с ними, сколько хочешь! Чего тебе? А выгода-то, выгода какая. Ты что здесь платишь? - Полторы тысячи. - А там тысячу рублей почти за целый дом! Да какие светленькие, славные комнаты! Она давно хотела тихого, аккуратного жильца иметь - вот я тебя и назначаю... Обломов рассеянно покачал головой в знак отрицания. - Врешь, переедешь! - сказал Тарантьев. - Ты рассуди, что тебе ведь это вдвое меньше станет: на одной квартире пятьсот рублей выгадаешь. Стол у тебя будет вдвое лучше и чище; ни кухарка, ни Захар воровать не будут... В передней послышалось ворчанье. - И порядка больше, - продолжал Тарантьев, ведь теперь скверно у тебя за стол сесть! Хватишься перцу - нет, уксусу не куплено, ножи не чищены; белье, ты говоришь, пропадает, пыль везде - ну, мерзость! А там женщина будет хозяйничать: ни тебе, ни твоему дураку, Захару... Ворчанье в передней раздалось сильнее. - Этому старому псу, - продолжал Тарантьев, - ни о чем и подумать не придется: на всем готовом будешь жить. Что тут размышлять? Переезжай, да и конец... - Да как же это я вдруг, ни с того ни с сего, на Выборгскую сторону... - Поди с ним! - говорил Тарантьев, отирая пот с лица. - Теперь лето: ведь это все равно, что дача. Что ты гниешь здесь летом-то, в Гороховой?.. Там Безбородкин сад, Охта под боком, Нева в двух шагах, свой огород - ни пыли, ни духоты! Нечего и думать: я сейчас же до обеда слетаю к ней - ты дай мне на извозчика, - и завтра же переезжать... - Что это за человек! - сказал Обломов. - Вдруг выдумает черт знает что: на Выборгскую сторону... Это немудрено выдумать. Нет, вот ты ухитрись выдумать, чтоб остаться здесь. Я восемь лет живу, так менять-то не хочется.. - Это кончено: ты переедешь. Я сейчас еду к куме, про место в другой раз наведаюсь... Он было пошел. - Постой, постой! Куда ты? - остановил его Обломов. - У меня еще есть дело, поважнее. Посмотри, какое я письмо от старосты получил, да реши, что мне делать. - Видишь, ведь ты какой уродился! - возразил Тарантьев. - Ничего не умеешь сам сделать. Все я да я! Ну, куда ты годишься? Не человек: просто солома! - Где письмо-то? Захар, Захар! Опять он куда-то дел его! - говорил Обломов. - Вот письмо старосты, - сказал Алексеев, взяв скомканное письмо. - Да, вот оно, - повторил Обломов и начал читать вслух. - Что ты скажешь? Как мне быть? - спросил, прочитав, Илья Ильич. - Засухи, недоимки... - Пропащий, совсем пропащий человек! - говорил Тарантьев. - Да отчего же пропащий? - Как же не пропащий? - Ну, если пропащий, так скажи, что делать? - А что за это? - Ведь сказано, будет шампанское: чего же еще тебе? - Шампанское за отыскание квартиры: ведь я тебя облагодетельствовал, а ты не чувствуешь этого, споришь еще; ты неблагодарен! Подь-ка сыщи сам квартиру! Да что квартира? Главное, спокойствие-то какое тебе будет: все равно как у родной сестры. Двое ребятишек, холостой брат, я всякий день буду заходить... - Ну хорошо, хорошо, - перебил Обломов, - ты вот теперь скажи, что мне с старостой делать? - Нет, прибавь портер к обеду, так скажу. - Вот теперь портер! Мало тебе... - Ну, так прощай, - сказал Тарантьев, опять надевая шляпу. - Ах ты, боже мой! Тут староста пишет, что дохода "тысящи две яко помене", а он еще портер набавил! Ну хорошо, купи портеру. - Дай еще денег! - сказал Тарантьев. - Ведь у тебя останется сдача от красненькой. - А на извозчика на Выборгскую сторону? - отвечал Тарантьев. Обломов вынул еще целковый и с досадой сунул ему. - Староста твой мошенник - вот что я тебе скажу, - начал Тарантьев, пряча целковый в карман, - а ты веришь ему, разиня рот. Видишь, какую песню поет! Засухи, неурожай, недоимки да мужики ушли. Врет, все врет! Я слышал, что в наших местах, в Шумиловой вотчине, прошлогодним урожаем все долги уплатили, а у тебя вдруг засуха да неурожай. Шумиловское-то в пятидесяти верстах от тебя только: отчего ж там не сожгло хлеба? Выдумал еще недоимки! А он чего смотрел? Зачем запускал? Откуда это недоимки? Работы, что ли, или сбыта в нашей стороне нет? Ах он, разбойник! Да я бы его выучил! А мужики разошлись оттого, что сам же он, чай, содрал с них что-нибудь, да и распустил, а исправнику и не думал жаловаться. - Не может быть, - говорил Обломов, - он даже и ответ исправника передает в письме - так натурально... - Эх, ты! Не знаешь ничего. Да все мошенники натурально пишут - уж это ты мне поверь! Вот, например, - продолжал он, указывая на Алексеева, - сидит честная душа, овца овцой, а напишет ли он натурально? - Никогда. А родственник его, даром что свинья и бестия, тот напишет. И ты не напишешь натурально! Стало быть, староста твой уж потому бестия, что ловко и натурально написал. Видишь ведь, как прибрал, слово к слову: "Водворить на место жительства". - Что ж делать-то с ним? - спросил Обломов. - Смени его сейчас же. - А кого я назначу? Почем я знаю мужиков? Другой, может быть, хуже будет. Я двенадцать лет не был там. - Ступай в деревню сам: без этого нельзя; пробудь там лето, а осенью прямо на новую квартиру и приезжай. Я уж похлопочу тут, чтоб она была готова. - На новую квартиру, в деревню, самому! Какие ты все отчаянные меры предлагаешь! - с неудовольствием сказал Обломов. - Нет чтоб избегнуть крайностей и придержаться средины... - Ну, брат Илья Ильич, совсем пропадешь ты. Да я бы на твоем месте давным-давно заложил имение да купил бы другое или дом здесь, на хорошем месте: это стоит твоей деревни. А там заложил бы и дом да купил бы другой... Дай-ка мне твое имение, так обо мне услыхали бы в народе-то. - Перестань хвастаться, а выдумай, как бы и с квартиры не съезжать, и в деревню не ехать, и чтоб дело сделалось... - заметил Обломов. - Да сдвинешься ли ты когда-нибудь с места? - говорил Тарантьев. - Ведь погляди-ка ты на себя: куда ты годишься? Какая от тебя польза отечеству? Не может в деревню съездить! - Теперь мне еще рано ехать, - отвечал Илья Ильич, - прежде дай кончить план преобразований, которые я намерен ввести в имение... Да знаешь ли что, Михей Андреич? - вдруг сказал Обломов. - Съезди-ка ты. Дело ты знаешь, места тебе тоже известны; а я бы не пожалел издержек. - Я управитель, что ли, твой? - надменно возразил Тарантьев. - Да и отвык я с мужиками-то обращаться... - Что делать? - сказал задумчиво Обломов. - Право, не знаю. - Ну, напиши к исправнику: спроси его, говорил ли ему староста о шатающихся мужиках, - советовал Тарантьев, - да попроси заехать в деревню; потом к губернатору напиши, чтоб предписал исправнику донести о поведении старосты. "Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участие и взгляните оком милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастие, происходящее от буйственных поступков старосты, и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться, с женой и малолетними, остающимися без всякого призрения и куска хлеба, двенадцатью человеками детей..." Обломов засмеялся. - Откуда я наберу столько ребятишек, если попросят показать детей? - сказал он. - Врешь, пиши: с двенадцатью человеками детей; оно проскользнет мимо ушей, справок наводить не станут, зато будет "натурально"... Губернатор письмо передаст секретарю, а ты напишешь в то же время и ему, разумеется со вложением, - тот и сделает распоряжение. Да попроси соседей: кто у тебя там? [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]/ Полные произведения / Гончаров И.А. / Обломов | Смотрите также по произведению "Обломов": Мы напишем отличное сочинение по Вашему заказу всего за 24 часа. Уникальное сочинение в единственном экземпляре. 100% гарантии от повторения! |
www.litra.ru
Читать онлайн "Обломов" автора Гончаров Иван Александрович - RuLit
– Ну, пусть эти «некоторые» и переезжают. А я терпеть не могу никаких перемен! Это еще что, квартира! – заговорил Обломов. – А вот посмотрите-ка, что староста пишет ко мне. Я вам сейчас покажу письмо… где, бишь, оно? Захар, Захар!
– Ах ты, владычица небесная! – захрипел у себя Захар, прыгая с печки, – когда это бог приберет меня?
Он вошел и мутно поглядел на барина.
– Что ж ты письмо не сыскал?
– А где я его сыщу? Разве я знаю, какое письмо вам нужно? Я не умею читать.
– Все равно поищи, – сказал Обломов.
– Вы сами какое-то письмо вчера вечером читали, – говорил Захар, – а после я не видал.
– Где же оно? – с досадой возразил Илья Ильич. – Я его не проглотил. Я очень хорошо помню, что ты взял у меня и куда-то вон тут положил. А то вот, где оно, смотри!
Он тряхнул одеялом: из складок его выпало на пол письмо.
– Вот вы этак все на меня!.. – Ну, ну, поди, поди! – в одно и то же время закричали друг на друга Обломов и Захар.
Захар ушел, а Обломов начал читать письмо, писанное точно квасом, на серой бумаге, с печатью из бурого сургуча. Огромные бледные буквы тянулись в торжественной процессии, не касаясь друг друга, по отвесной линии, от верхнего угла к нижнему. Шествие иногда нарушалось бледночернильным большим пятном.
– «Милостивый государь, – начал Обломов, – ваше благородие, отец наш и кормилец, Илья Ильич…»
Тут Обломов пропустил несколько приветствий и пожеланий здоровья и продолжал с середины:
– «Доношу твоей барской милости, что у тебя в вотчине, кормилец наш, все благополучно. Пятую неделю нет дождей: знать, прогневали господа бога, что нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят: яровое так и палит, словно полымем. Озимь ино место червь сгубил, ино место ранние морозы сгубили; перепахали было на яровое, да не знамо, уродится ли что? Авось, милосердый господь помилует твою барскую милость, а о себе не заботимся: пусть издохнем. А под Иванов день еще три мужика ушли: Лаптев, Балочов, да особо ушел Васька, кузнецов сын. Я баб погнал по мужей: бабы те не воротились, а проживают, слышно, в Челках, а в Челки поехал кум мой из Верхлева; управляющий послал его туда: соху, слышь, заморскую привезли, а управляющий послал кума в Челки оную соху посмотреть. Я наказывал куму о беглых мужиках; исправнику кланялся, сказал он: „Подай бумагу, и тогда всякое средствие будет исполнено, водворить крестьян ко дворам на место жительства“, и, опричь того, ничего не сказал, а я пал в ноги ему и слезно умолял; он закричал благим матом: „Пошел, пошел! тебе сказано, что будет исполнено – подай бумагу!“ А бумаги я не подавал. А нанять здесь некого: все на Волгу, на работу на барки ушли – такой нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш, батюшка, Илья Ильич! Холста нашего сей год на ярмарке не будет: сушильню и белильню запер на замок и Сычуга приставил денно и ночно смотреть: он тверезый мужик; да чтобы не стянул чего господского, я смотрю за ним денно и ночно. Другие больно пьют и просятся на оброк. В недоимках недобор: нынешний год пошлем доходцу, будет, батюшка ты наш, благодетель, тысящи яко две помене против того года, что прошел, только бы засуха не разорила вконец, а то вышлем, о чем твоей милости и предлагаем».
Затем следовали изъявления преданности и подпись: «Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин собственной рукой руку приложил». За неумением грамоты поставлен был крест. «А писал со слов оного старосты шурин его. Демка Кривой».
Обломов взглянул на конец письма.
– Месяца и года нет, – сказал он, – должно быть, письмо валялось у старосты с прошлого года; тут и Иванов день и засуха! Когда опомнился!
Он задумался.
– А? – продолжал он. – Каково вам покажется: предлагает «тысящи яко две помене»! Сколько же это останется? Сколько, бишь, я прошлый год получил? – спросил он, глядя на Алексеева. – Я не говорил вам тогда?
Алексеев обратил глаза к потолку и задумался.
– Надо Штольца спросить, как приедет, – продолжал Обломов, – кажется, тысяч семь, восемь… худо не записывать! Так он теперь сажает меня на шесть! Ведь я с голоду умру! Чем тут жить?
– Что ж так тревожиться, Илья Ильич? – сказал Алексеев. – Никогда не надо предаваться отчаянию: перемелется – мука будет.
– Да вы слышите, что он пишет? Чем бы денег прислать, утешить как-нибудь, а он, как на смех, только неприятности делает мне! И ведь всякий год! Вот я теперь сам не свой! «Тысящи яко две помене»!
– Да, большой убыток, – сказал Алексеев, – две тысячи – не шутка! Вот Алексей Логиныч, говорят, тоже получит нынешний год только двенадцать тысяч вместо семнадцати…
– Так двенадцать, а не шесть, – перебил Обломов. – Совсем расстроил меня староста! Если оно и в самом деле так: неурожай да засуха, так зачем огорчать заранее?
– Да… оно в самом деле… – начал Алексеев, – не следовало бы; но какой же деликатности ждать от мужика? Этот народ ничего не понимает.
– Ну, что бы вы сделали на моем месте? – спросил Обломов, глядя вопросительно на Алексеева, с сладкой надеждой, авось не выдумает ли, чем бы успокоить.
– Надо подумать, Илья Ильич, нельзя вдруг решить, – сказал Алексеев.
– К губернатору, что ли, написать! – в раздумье говорил Илья Ильич.
– А кто у вас губернатор? – спросил Алексеев.
Илья Ильич не отвечал и задумался. Алексеев замолчал и тоже о чем-то размышлял.
Обломов, комкая письмо в руках, подпер голову руками, а локти упер в коленки и так сидел несколько времени, мучимый приливом беспокойных мыслей.
– Хоть бы Штольц скорей приехал! – сказал он. – Пишет, что скоро будет, а сам черт знает где шатается! Он бы уладил.
Он опять пригорюнился. Долго молчали оба. Наконец Обломов очнулся первый.
– Вот тут что надо делать! – сказал он решительно и чуть было не встал с постели, – и делать как можно скорее, мешкать нечего… Во-первых…
В это время раздался отчаянный звонок в передней, так что Обломов с Алексеевым вздрогнули, а Захар мгновенно спрыгнул с лежанки.
– Дома? – громко и грубо кто-то спросил в передней.
– Куда об эту пору идти? – еще грубее отвечал Захар.
Вошел человек лет сорока, принадлежащий к крупной породе, высокий, объемистый в плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими навыкате глазами, толстогубый. Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чем-то грубом и неопрятном. Видно было, что он не гонялся за изяществом костюма. Не всегда его удавалось видеть чисто обритым. Но ему, по-видимому, это было все равно; он не смущался от своего костюма и носил его с каким-то циническим достоинством.
Это был Михей Андреевич Тарантьев, земляк Обломова.
Тарантьев смотрел на все угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить все и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который недобровольно, неуныло покоряется ей.
Движения его были смелы и размашисты; говорил он громко, бойко и почти всегда сердито; если слушать в некотором отдалении, точно будто три пустые телеги едут по мосту. Никогда не стеснялся он ничьим присутствием и в карман за словом не ходил и вообще постоянно был груб в обращении со всеми, не исключая и приятелей, как будто давал чувствовать, что, заговаривая с человеком, даже обедая или ужиная у него, он делает ему большую честь.
Тарантьев был человек ума бойкого и хитрого; никто лучше его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса или юридического запутанного дела: он сейчас построит теорию действий в том или другом случае и очень тонко подведет доказательства, а в заключение еще почти всегда нагрубит тому, кто с ним о чем-нибудь посоветуется.
Между тем сам как двадцать пять лет назад определился в какую-то канцелярию писцом, так в этой должности и дожил до седых волос. Ни ему самому и никому другому и в голову не приходило, чтоб он пошел выше.
www.rulit.me
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Пример видео 3 Пример видео 3 |  Пример видео 2 Пример видео 2 |  Пример видео 6 Пример видео 6 |  Пример видео 1 Пример видео 1 |  Пример видео 5 Пример видео 5 |  Пример видео 4 Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»




 / Полные произведения / Гончаров И.А. / Обломов
/ Полные произведения / Гончаров И.А. / Обломов